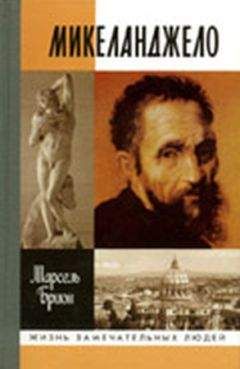— Реб Ихил, дайте мне за полгроша оберточной бумаги для бабки и за полгроша кореньев…
— Зараз дам, — говорил Ихил-учитель и прерывал урок.
В Билгорае вместо «на грош» или «на полгроша» говорили «за грош» или «за полгроша», а вместо «сейчас» — «зараз»…
Мне очень нравились уроки Ихила-учителя. Я любил разглядывать девиц на выданье, у которых перо ни за что не хотело держаться в натруженных руках и ломалось или забрызгивало бумагу чернилами. Я любил слушать любовные песни дочерей Ихила, которые они все время пели. Они шили форменные рубахи для казаков, и, хотя работа была тяжелой, однообразной и плохо оплачиваемой, их пение никогда не смолкало. Среди самых любимых песен дочерей реб Ихила была песня о смерти птички; песня о девушке, которая сбежала с хлопцем и крестилась, но все для нее закончилось плохо, и ей пришлось стирать белье у евреев; а также — песня о благочестивой швее:
Как-то раз девушка-швея
Шила у окна,
Мимо шел ротный офицер,
Полюбилась ему она.
— Девушка, девушка, как ты хороша!
Хочешь быть со мной?
Девушка, девушка, ты моя душа,
Будь моей женой!
— Быть твоей женой, офицер, я не могу,
Не велит закон,
Быть твоей женой никак я не могу,
Ведь ты крещен.
Как услышал это ротный офицер,
Не на шутку вспылил,
Выхватил он сразу свой пистолет
И бедняжку застрелил…
Встретив пулю, упала она,
Выронив шитье,
Поднял он снова свой пистолет
И выстрелил в сердце свое…[164].
Девицы на выданье, которые учились подписывать свое имя, оплакивали участь благочестивой швеи, и их слезы капали на чистую разлинованную бумагу тетрадок, сшитых Ихилом-учителем. Проворнее всех в шитье рубашек и громче всех в пении любовных песен была немая дочь Ихила. Она завывала дико и страстно, словно сука по весне, когда ее не пускают к кобелям.
Освободившись от занятий в хедере и у Ихила-учителя, я пробирался в кабинет деда и с любопытством наблюдал, как он исполняет свои раввинские обязанности.
В кабинете всегда было многолюдно. Там проходили общинные сходы и разрешались тяжбы. Разные люди, порой из дальних мест, приходили к деду: и погорельцы, и зажиточные хозяева, и сборщики денег, и авторы религиозных сочинений[165]. Иногда появлялся какой-нибудь еврей из Святой Земли, одетый в полосатую, как будто женскую, жупицу[166] и разговаривал с дедом на святом языке или даже на языке Таргума. Среди прочих попадались весьма занимательные типы и занимательные разговоры. Больше всего мне нравилось, когда в кабинете деда разводились супруги, не сумевшие ужиться друг с другом. С просьбой о разводе приходили не только из самого Билгорая и его окрестностей, но и из соседних местечек, где не было реки, из-за чего там нельзя было написать разводное письмо. По еврейскому закону, в документе о разводе обязательно должно быть указано, что совершен он в такой-то и такой-то общине на такой-то и такой-то реке[167]. В Билгорае река была, и поэтому туда приходили разводиться из многих лишенных реки местечек. Сойфер вместе со свидетелями садились за стол деда[168]. Разводящаяся пара стояла. Дед задавал одни и те же вопросы мужу и жене:
— Ты, Зеев-Цви, по прозванию Волф-Гирш[169], желаешь ли ты развестись со своей женой Эстер-Адасой, по прозванию Этл-Годл?
— Еще бы! Она у меня что кость в горле, ребе! — отвечал муж.
— Отвечай просто «да», и ни слова больше, а то испортишь весь развод, — сердился Шмуэл-шамес на человека, говорившего больше, чем положено.
Дед спрашивал у женщины, надвинувшей платок на глаза, чтобы не показывать лицо мужчинам:
— Ты, Эстер-Адаса, по прозванию Этл-Годл, желаешь ли ты по доброй воле принять развод от своего мужа Зеева-Цви, по прозванию Волф-Гирш, или принуждена к этому им, его родственниками или кем иным?.. Если у тебя есть сожаление, если у тебя есть малейшая тень сожаления[170], если у тебя есть, что поведать, поведать нам хоть самую малость, если у тебя есть даже малейший помысел о сожалении, не скрывай ничего и выскажи перед судом…
— Говори «нет», женщина, только одно слово, чтобы не испортить развод, — предупреждал ее Шмуэл-шамес.
— Нет, — говорила женщина.
Однако не всегда все проходило так гладко. Нередко женщина, вопреки всем предостережениям, начинала браниться, поносить своего мужа на чем свет стоит, и тогда церемония развода считалась испорченной — приходилось все начинать сначала.
Получить у деда развод было нелегко. Он всеми силами старался помирить супругов. Только когда ничего уже не помогало или, к примеру, в семье через десять лет после свадьбы не было детей[171], дед давал разрешение на развод. Частыми гостями в суде у деда были муж с женой из ближней деревни, которые все время разводились, женились, снова разводились, и так без конца. Я не помню, как их звали и из какой деревни они приезжали. Помню только, что муж делал горшки и продавал их на рынке. Оба были уже в летах. Всех своих детей они поженили и выдали замуж и все-таки продолжали ссориться и ходить к деду разводиться. Дед отсылал их домой на неделю, чтобы они помирились, но через неделю они снова являлись и снова добивались развода.
— Ребе, я видеть больше не могу эту проклятую! — кричал горшечник.
— Лучше уж я пойду побираться, чем стану есть хлеб этого разбойника! — заявляла горшечница.
Ничего не оставалось, как развести их.
Шмуэлю-шамесу не приходилось объяснять им, как отвечать на вопросы. Они и так все знали назубок. Горшечник и его жена являлись разводиться в субботних одеждах, как на праздник. Особенно принаряжался перед разводом горшечник. Только штаны он не менял. На нем всегда были измазанные глиной рабочие штаны, правда, поверх будничных штанов он напяливал субботнюю капоту. Она была ему мала и коротка, наверняка он в ней когда-то женился, но все равно это была субботняя капота, обшитая тесьмой и с белыми костяными пуговицами. В доме деда знали: если горшечник пришел в субботней капоте, значит, он пришел разводиться. В той же капоте он спустя неделю приходил жениться на своей бабе, с которой только что развелся. Шмуэл-шамес, бывший также в некотором роде шадхеном, знал наперед, что дело опять кончится сватовством. Сидя у бабушки на кухне и без конца гоняя чаи с одним куском сахара вприкуску, Шмуэл-шамес с удовольствием рассказывал о том, как ему это удается. Первые несколько дней он горшечника не трогает. Потом идет к нему в пригородную деревню. В доме горшечника беспорядок, печь не топлена, постели не застелены. Горшечник сидит один, печальный и голодный.