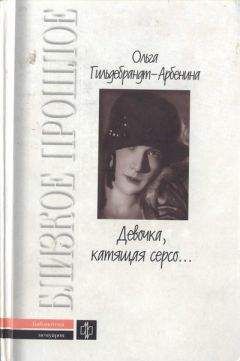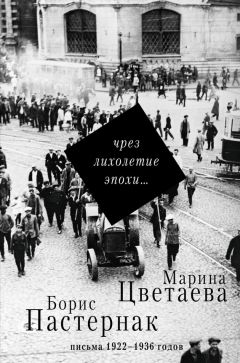И вот — говорил мне потом Гумилёв: «Я пошел и попросил Николая Константиновича: — Представьте меня вашей сестре. — Он познакомил меня с нею… Это была тоже очаровательная девушка, но ведь это же не та».
Мне пришлось опять пройти тем же проходом. Почему одной? Лина Ивановна сидела на месте — но куда девался Курдюмов? и другие знакомые?
Я увидала Аню, и рядом с ней стоял Гумилёв, т. е. это я узнала от нее, — она меня остановила, сказав: «Оля, Николай Степанович Гумилёв просит меня тебе его представить». Я обалдела! Поэт Гумилёв, известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой… и вдруг так на меня смотрит… Он «слегка» умерил свой взгляд, и я что-то смогла сказать о стихах и поэтах. Аня потом сказала с завистью: «Какая ты умная! А я стою и мямлю, не знаю что».
Я не могу сказать точно, была ли у меня намеренная уловка, или нет (а он следил за мной), но я одна выбралась опять в фойе, и Гумилёв тут же появился и встал передо мной. Он смотрел на меня в упор, и я услыхала его голос (теперь это было бы впечатлением от голоса по радио — в то время как сам человек стоит и молчит), но тогда ведь не было радио, и сказанные слова прозвучали как в воздухе, — «я чувствую, что буду вас очень любить. Я надеюсь, что вы не prude. Приходите завтра к Исаакиевскому собору».
Я ответила в обратном порядке: «Это мне очень далеко… И все же неловко…» («так скоро» — я не сказала). Но на любовь я могла только улыбнуться.
На просьбу пойти меня проводить я могла только сказать, что я не одна — телефон ему дала — еще он сказал: «Я вчера написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой — завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной».
Он был ранен (или контужен) и лежал в лазарете (а не жил у матери), в Царском.
Он, конечно (т. е. я думаю!), пошел проводить Аню[45]. Как она пошла без брата, не знаю. Она была старше меня, была сестрой милосердия и ходила в форме сестры, которая ей чрезвычайно шла. Что было ясно: она «учуяла» опасность и «бросилась наперерез». У нас с ней были общие поклонники, и, как я сказала, нас часто путали. Брат ее не любил Гумилёва как поэта; он был поклонником Кузмина.
И вот Гумилёв мне позвонил. Он попросил прийти… но я сказала, что занята (я днем ходила одна, но я обещала Курдюмову[46] с ним погулять и Гумилёву сказала на следующий день). Вот и началась комедия-путаница!
Пошла я в Летний сад с Курдюмовым (отношения сугубо платонические) — и на крайней скамейке у решетки увидела Гумилёва с Аней!..
Мужчины о чем-то поговорили, Аня имела вид смущенный, девический и счастливый, а я собрала все свое нахальство и какой-то актерский талант и переглянулась с Гумилёвым как в романах Мопассана.
В назначенный день и час мы встретились — как будто в районе Греческой церкви{109} — было ветрено, холодно, листья распустились, но весна задерживалась[47], — он, с моего согласия, повез меня не на Острова, а в Лавру. Мы прошли через тот ход, где могила Наталии Николаевны и Ланского. Вероятно, хитрый Гумилёв придумал эту овеянную ветрами поездку, чтобы уговорить потом поехать с ним в ресторан — согреться. По дороге мы заехали в книжный магазин, где он купил мне «Жемчуга» и написал:
«Оле. Олъ
Отданный во власть ее причуде
Юный маг забыл про все вокруг…»
И поставил какое-то «будущее» число…
В ресторане (в отдельном кабинете, конечно!) я до того бывала только со своим французом-дедушкой и его знакомым французом в Астории и в Европейской, но тут я испугалась… и очень развеселилась. Было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи[48]. Первые, что он прочел обо мне: «Женский голос в телефоне, Упоительно-несмелый… Сколько сладостных гармоний В этом голосе без тела…» Стихи были довольно длинные, и я их не помню. Очень пылкие и шли crescendo{110}, как в «Самофракийской победе»{111}…
Увы! эти самые стихи он через год «отдал» Елене из Парижа{112}, конец пропал — и он отрубил им хвост[49]. У «нее» звучало:
Женский голос в телефоне — неожиданный и смелый…
Вообще мы говорили обо всем: и о войне, и об Африке, и о царице, и о Ронсаре, и Дю Белле[50]. Кажется, мы не упомянули о нашей «неловкой встрече» в Летнем саду — ни об Ане. Надо сказать очень странную вещь: Аня была бойкая, с загорающимся румянцем, вертлявая; о нас говорили: «Коломбина и Пьеретта», имелось (про меня) мнение, что это блоковская Коломбина, — я была бледнее, болезненнее, и меня без конца называли принцессой Малэн, Мелисандой, Сольвейг{113} — и другими нежными «северными девушками».
С первой встречи в ресторане меня «подменили», и у меня вдруг прорвалась бешеная веселость и чуть ли не вакхичность — и сила — выдерживать натиск.
Гумилёв доставил мне радость, отметя нежных северянок, и называл меня Хлоей («с козленком, в золотой пыли»), Розиной (это, верно, за нечаянную, но вовсе не свойственную мне хитрость!) и… Кармен. Это была моя мечта: и блоковская Кармен, и музыка Бизе, и сама Кармен — и главное — Судьба. Он еще сказал «красный перец». Тут уж моя доля была предопределена!
Но я выдерживала все натиски и безумно боялась. Я знала всё «про любовь» из «Суламифи», из «Саламбо»{114}, из романов д’Аннунцио. Я ничего не знала реально. Помню, на улице (на какой, не помню!) мы говорили о существующих поэтах, как о «кандидатах»[51]. «Бальмонт уже стар. Брюсов с бородой. Блок начинает болеть. Кузмин любит мальчиков. Вам остаюсь только я». Я говорила, что очень люблю Блока. Он тоже. Я хотела (по карточке и по стихам) с детства иметь роман с Блоком — но его внешний облик меня расхолодил. (Этого я не сказала.) «Я чувствую себя по отношению к Блоку, как герцог Лотарингии к королю Франции[52]. Но я бы предпочла быть королевой французской».
Я помню, что проявила зверство, спросив: «Сколько немцев вы убьете в мою честь?» — Ведь я мечтала о проливах, и патриотизм был у нас одного толка.
Мы встретились еще раз, и тут было еще труднее выдерживать штурм.
М. Ф. Ларионов. Портрет Николая Гумилёва. 1917
Он говорил, что надо завести «альбом Оли» и туда вписывать все стихи. Увы!.. Это было последнее мое свидание с Гумилёвым в ту весну. Он начитал мне бездну стихов, и старых, и новых, — и вся эта бурность, которая меня заколдовала, через год перешла в другой альбом — Елены — в Париже. Меня наказали — и мне нельзя было увидеть его перед его отъездом в Массандру, — ни получать от него писем. И потом — пришла Аня, и мы «повыведывали» друг у друга свои новости. Она перешла в мою шкуру, побледнела и стала говорить тише и смиреннее. Мне кажется, у нее уже все случилось. И теперь еще мне непонятно, почему я хохотала, как в исступлении, и меня выбрасывало с кровати по ночам, как будто шло какое-то колдовство?!