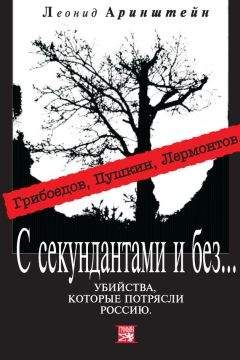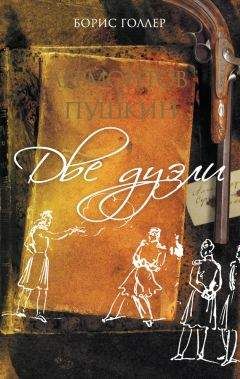Так или иначе, но поведение Пушкина в феврале 1836 г. весьма показательно. В марте он как будто чувствует себя более спокойно, но тут обрушивается новое несчастье: 29 марта умерла Надежда Осиповна – мать поэта. «Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, которая, однако, предпочитала ему своего второго сына… Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью… что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознаваясь, что она не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь… После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою…»[54]
С момента кончины матери тема близкой смерти, вот уже год доминировавшая в его произведениях, как бы переходит в бытовой план, обретая совершенно конкретные поведенческие черты. Свершив печальный обряд – погребение Надежды Осиповны состоялось в Святых Горах 13 апреля, – Пушкин купил рядом место и для своей будущей могилы… Возвратившись в Петербург, он тотчас посетил могилу Дельвига, а приехав неделю спустя в Москву, первым делом стал рассказывать ошеломленной Вере Нащокиной о преимуществах быть похороненным в Святых Горах: «Нащокина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что, когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным, сухим грунтом, вспомнил о Войныче (так он звал его иногда): „Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная…“»[55]
Бытовой аспект восприятия смерти проникает и в лирику Пушкина, причем не в иронической условно-игровой трактовке, как некогда в «Онегине» (вспомним поведение Ленского на могиле Ларина: «Poor Yorick! молвил он уныло, / Он на руках меня держал. / Как часто в детстве я играл / Его Очаковской медалью! / Он Ольгу прочил за меня…») или в «Послании к Дельвигу» («Прими ж сей череп, Дельвиг, он / Принадлежит тебе по праву. / Обделай ты его, барон, / В благопристойную оправу. / Изделье гроба преврати / В увеселительную чашу, / Вином кипящим освяти / Да запивай уху да кашу»), а впервые в плане совершенно серьезных и глубоко личных размышлений:
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи…
Собственно, вся эта представленная даже с некоторым нажимом унылая картина понадобилась Пушкину, чтобы еще раз выявить преимущества места своего будущего успокоения:
…Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
Наместо праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя…
(III, 422–423)
Создается впечатление, что перенесение темы смерти в бытовой план и некоторое «привыкание» поэта к этой теме в какой-то мере способствовали обретению им душевного равновесия. То же действие, вероятно, оказывали и другие события, относящиеся к весне – лету 1836 г.
В апреле Пушкин получил радостное известие от друга своей юности Кюхельбекера, отбывавшего десятилетний срок заточения в крепости: «Мое заточение кончилось: я на свободе…» Пушкин откликнулся на это известие единственным в те годы светлым стихотворением (на внешнем уровне это вольный перевод оды Горация):
Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил…
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье…
(III, 389–390)
Другим отрадным для Пушкина событием стало рождение дочери (23 мая). Отрадным не только потому, что в семье радовались каждому ребенку, но в сложившихся условиях еще и потому, что это на какое-то время отдалило Наталью Николаевну от светской жизни со всеми ее зимними тревогами… Обещало быть спокойным и лето – Пушкины сняли дачу на Каменном острове, а доблестных кавалергардов отправили, слава Богу, до начала августа куда-то на учения… Так что Дантес не появлялся подле Натальи Николаевны в общей сложности месяца четыре… Увы, хрупкое семейное благополучие поэта зависело теперь и от таких вещей!
Сегодня мы знаем, что летнее спокойствие было лишь временной передышкой.
Сознавал ли это сам Пушкин? Вероятно, сознавал. У него хватило сил сделать это лето в творческом отношении тем, чем была для него прежде осень. И то, что он написал, стало своего рода подведением итогов – своеобразным смотром фундаментальных принципов и духовных ценностей, которые он пронес через всю жизнь.
В стихотворениях лета 1836 г. – так называемом Каменноостровском цикле – поражает, насколько органично размышления Пушкина, выстраданные собственным жизненным опытом, сливаются с вечными истинами, а сами эти истины как бы открываются им в евангельских текстах заново, становятся чем-то глубоко личным.
Вероятно, не случайно цикл открывает стихотворение «Мирская власть». Незначительный, по существу, эпизод – в Казанском соборе была выставлена стража для охраны плащаницы – становится здесь отправной точкой для философских размышлений о религии и Церкви вообще и ослаблении ее влияния на нравственное состояние общества в частности. Истинное, нравственное, духовное – напоминает Пушкин – хранит и утверждает себя лишь внутренней духовной силой, а не силовыми методами «мирской» власти:
…Но у подножия теперь Креста честнаго,
Как будто у крыльца правителя градскаго,
Мы зрим – поставлено на место жен святых
В ружье и кивере два грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей? —
Иль мните важности придать Царю Царей?..
(Мирская власть, 5 июня – III, 417)
Тема прогрессирующего нравственного упадка естественным образом подводит поэта к мыслям о самом гнусном его проявлении – предательстве. Недаром именно предателей великий Данте поместил в самый страшный – девятый круг Ада, где подверг их жесточайшей каре[56].
С предательством Пушкин столкнулся еще в юности – достаточно вспомнить его стихотворение 1824 г. «Коварность». Но теперь у него появлялись все новые и новые поводы задуматься над этим страшным грехом. Предательством он мог считать поведение Императора, не оправдавшего возлагавшихся на него надежд. Предательством могла стать супружеская измена горячо любимой им Натальи Николаевны, о чем ему постоянно напоминала складывавшаяся вокруг нее ситуация. Однако в своих поэтических размышлениях Пушкин обратился не к бытовым или политическим аспектам темы предательства, а к величайшей мировой трагедии – к предательству Иуды, что более всего соответствовало религиозно-философскому умонастроению поэта летом 1836 г.: