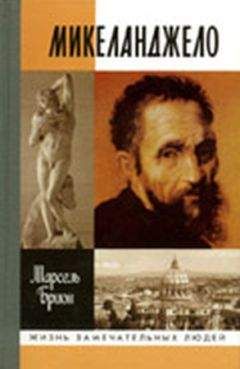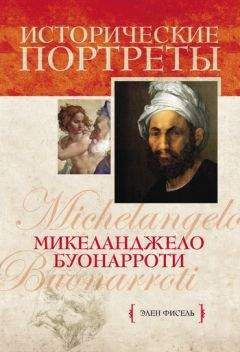Строго говоря, оба эти Рима начинали возрождаться благодаря папам-гуманистам, желавшим вернуть остатки славного прошлого, а также тщеславию знатных римских семейств, стремящихся после своей подозрительной и вооруженной средневековой изоляции приспособиться к вкусам дня. И город покрылся строительными площадками. На одних извлекали из руин древние памятники, на других закладывали новые дворцы. Это усугубляло общий беспорядок и грязь, и турист, ожидавший увидеть Рим Августа, испытал бы жестокое разочарование, глядя на рвы, из которых вытаскивали фрагменты оснований античных стен либо опускали фундаменты будущих строений.
Для Микеланджело человека, несомненно, просвещенного, но отнюдь не обремененного литературой, который, разумеется, не был ни антикваром, ни археологом, Рим был лишь городом весьма отсталым в сравнении с Флоренцией. Городом, которого пока еще почти не коснулся Ренессанс. Художники того времени, эти «люди будущего», отнюдь не отличались суеверным отношением к прошлому. Если бы они были чересчур заняты древним, они никогда не создали бы ничего нового. Консервативный дух и разум не благоприятствуют творческому состоянию души. В этот период культ античности существовал лишь у философов, историков и ученых, которые не могли от него пострадать. Менее тираническим он был у поэтов, которые, однако, так и остались второстепенными, вероятно, именно по причине его деспотизма. Что касается художников, то их он почти не затронул, и Микеланджело меньше, чем кого-либо другого.
После Флоренции и даже после Болоньи он должен был воспринимать Рим как город, который, кроме того, что считался столицей христианства, не отличался ничем ошеломляющим. У него пока еще не было времени посетить частные коллекции, богатые античными произведениями. Во Флоренции предпочитали современность, она дышала легким, чистым воздухом, насыщенным живостью и предвкушением будущего. В Риме люди жили в несколько удушливой атмосфере прошлого, эксплуатируя великолепное наследие. Жили самим именем, репутацией древнего города. Ренессанс не произвел впечатления на этого дремлющего колосса: становление нового Рима из руин прошлого было делом рук барочных пап.
«Больше ничего». Он повидал старые христианские базилики и, вероятно, удивился тому, насколько они в своей невыразительности не соответствовали его ожиданиям. Он без волнения рассматривал мозаики и фрески первых столетий. Все это не могло ничему его научить, было уже слишком далеко от него, чтобы повлиять на его искусство, но еще слишком близко, чтобы стать неким богатым прошлым. Его индивидуальность уже была категорически неприступной. У него не было потребности чему бы то ни было подражать. С точки зрения техники его «ремесло» было совершенным. Если бы он и поверил, подобно некоторым, в вечный конфликт между древним и современным, шутка Эроса его разубедила бы: он-то ведь создал настоящий античный шедевр.
Было бы наивной бессмыслицей вообразить, что Микеланджело мог писать отцу, братьям, своему другу Пополани безумно-восторженные письма. Он холодно говорил с ними о том, что интересовало его в данный момент, — о своих стычках с Бальдассаре. Но если сверх того его волновало и что-то другое, зачем об этом знать другим?
Разумеется, он не мог без замирания сердца смотреть на величественные портики храмов, врезанные в их вульгарные фасады. Рим позволил ему пережить высшее изумление, когда он неожиданно обнаружил театр с ярусами колонн, к которому жались жалкие домишки. Ставшие притонами бродяг и воров цирки еще хранили благородные очертания, а императорские дворцы, полускрытые от взоров нагромождением окружающих домов, сохраняли свое властное благородство. Хотя Форум и стал рынком скота, он просвечивал сквозь глину и нечистоты. Сохранившаяся капитель, часть архитрава выдавали погребенное здание, подобно тому как вершина какого-нибудь острова указывает на присутствие цепи подводных гор.
Ему нравилась эта красочность современной жизни, смешавшаяся с античным декором, удивительная перспектива улочек, вся эта непринужденно-фамильярная близость к прошлому, по существу куда более трогательная, чем почтительное благоговение археологов; ему нравилось, как современный Рим приспосабливался к тому, который ему предшествовал, очаровывало нерадивое небрежение, которое не мешало людям жить среди руин, словно с их согласия. Но все это, разумеется, не могло служить темой письма и даже не заслуживало простого упоминания.
Чтобы быть совершенно искренним, Микеланджело должен был бы написать нечто вроде следующего: «Этот Рим, о котором столько говорят, гораздо менее красив, чем Флоренция. Самые известные семейства живут здесь так, как у нас жили двести лет назад. Здесь не чувствуется никакого нового духа, никаких признаков того, чего требует наше время. Эти люди слишком горды своим прошлым, чтобы иметь смелость стать современными, создавать новое. Это хранители музея. Они любят древность такой безрассудной любовью, что предпочитают плохое древнее прекрасному современному. И спрос на все древнее настолько велик, что раскопки не успевают удовлетворять нетерпение любителей. Здесь есть ловкие скульпторы, фабрикующие на заказ любые древности. Даже самые осведомленные любители подчас становятся жертвами мошенничества, и я знаю одного, заплатившего двести дукатов за статую Эроса, проданную как древнее произведение, за которую не дали бы и двадцати дукатов, если бы она была подписана именем Микеланджело Буонарроти. Таких, как он, много…»
Микеланджело этого не писал, потому что цензура перлюстрировала письма как на выходе из Рима, так и по прибытии во Флоренцию. Да к тому же это и не имело никакого значения.
Когда он был принят римским обществом и восхищался древними скульптурами, за обладание которыми боролись между собой коллекционеры, его недоверчивая, ироническая, типично флорентийская сдержанность, которой он славился, отступила. В галереях антиков, в городских руинах встречались великие, восхитительные вещи. Этрусскую наследственность Микеланджело повергли в изумление гигантские термы — а ведь это были всего лишь бани! — Колизей, это совершеннейшее кольцо из камня, — а ведь это был всего-навсего цирк! — Пантеон Агриппы и его свод совершенно божественных пропорций и базилика Максенче, сам нынешний упадок которой красноречиво говорил о блистательном прошлом. Этруски были великими строителями, построившими фантастические врата, циклопические стены; и римляне, эти неблагодарные разрушители, несомненно, переняли от них эту страсть к колоссальным памятникам.