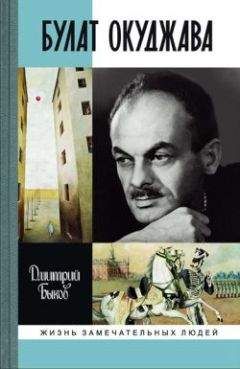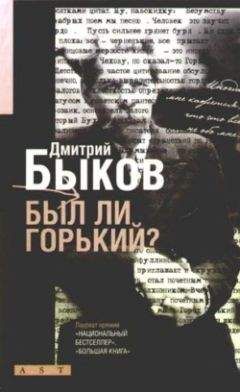На протяжении последних двухсот лет в России более или менее активно действовал антикультурный по сути проект, называвшийся то почвенничеством, то славянофильством, то русской национальной идеей, – но не имевший отношения ни к русскому, ни к национальному, а по сути, и клевещущий на это национальное. Полемика западников и славянофилов тоже не имеет к этому проекту никакого отношения, поскольку шла она по другой линии: западники верили в представительскую демократию и линейный прогресс – славянофилы предпочитали монархию и доказывали нелинейность российской истории. Западники предпочитали христианство с его апокалиптикой – то есть с учением о том, что личность свободна, а история имеет начало и конец. Славянофилы считали, что личность есть лишь атом «мира», как называлась на Руси община, – а европейский путь действительно ведет к гибели человечества, а потому для России нежелателен. Спор этот не закончен по сей день, у обеих сторон хватает аргументов, в обоих лагерях были люди талантливые и бездарные, но эта дискуссия имеет характер метафизический и к мордобоям не приводит. Западники и славянофилы – как Гершензон и Розанов, Мережковский и Сергей Булгаков – могли вести между собою цивилизованные дискуссии и обедать за одним столом, и ничего страшного.
Но всякая идейная дискуссия отбрасывает тень – спор на уровне мелочных самолюбий и личных амбиций, полемику бездарности с талантом, силы с правом, и этот спор тоже маскируется под теоретический, хотя на деле представляет собой лишь месть бездарных – талантливым, а сервильных – свободным. Некоторая часть литераторов, считающих долгом обслуживать власть или откровенно примазываться к ней, считает себя славянофилами на том основании, что отрицает демократические свободы и настаивает на сильной руке. Любой талант для этой категории населения подозрителен, любой успех они готовы объявить дешевым и шумным, продуктивная работа представляется им грехом, ибо работать они умеют только плохо и медленно, что у них называется – «несуетно», «неторопко»; выражаются они косноязычно, но полагают это признаком близости к народу. Поскольку бездарность подобных авторов или идеологов вполне очевидна, они ищут легитимизации, пытаясь пробиться к власти либо навязывая ей свою помощь, как идеологическую (в оправдании расправ), так и методологическую (в их осуществлении). Больше всего на свете эта публика ненавидит культуру – то есть качественно сделанные вещи; в семидесятые годы спор между литераторами этого рода и их более одаренными коллегами шел вовсю, но маскировался под традиционную дискуссию западников и славянофилов. Так возникло ложное отождествление, сильней повредившее славянофилам (поскольку именно их отождествили с бездарями).
С почвенниками себя отождествили те, кто призывал к запретительству и расправам, кто предлагал власти свои услуги для закручивания идеологических гаек; в почвенники записывались те, кому нечем было гордиться, кроме имманентных, изначально данных признаков вроде происхождения. К настоящим «деревенщикам», литераторам круга Твардовского, – Можаеву, Залыгину, Астафьеву, – они опять-таки не имели касательства: их апология сельского быта была лишь протестом против городской культуры. Реальной сельской жизни они не знали вовсе – тому порукой невыносимо-фальшивые, слюняво-сусальные рассказы и повести о колхозном быте, наводнявшие «Наш современник» и «Молодую гвардию». Это был очередной реванш простоты – всегда подающей голос, когда культура достигает известной сложности, утонченности и влиятельности. Так было в тридцатые, так случилось и в семидесятые. Советская культура являла собой хоть и душную, и почти герметичную, а все-таки удивительную оранжерею: Трифонов, Распутин, Искандер, Стругацкие, Аксенов, Казаков, Тарковский, Шукшин, Авербах, Любимов, Эфрос, Василь Быков, Окуджава, Слуцкий, Самойлов, Битов, Вознесенский, Мориц, Высоцкий, Аннинский – это ведь я не назвал и четверти звезд первой величины, а были и вполне достойный второй ряд, и контекст, и планка; действие равно противодействию, и нужен был кто-то, чтобы этих персонажей осаживать, совать им палки в колеса, доносить… Борьба обречена была выйти на поверхность, и 21 декабря 1977 года в ЦДЛ состоялась дискуссия «Классика и мы» – с классикой, понятное дело, почти не соотносившаяся, если не считать классикой попытку привлечь патриотические мотивы к запретительной и доносительской риторике.
Я хочу подчеркнуть, что в литературе семидесятых годов боролись не западники и славянофилы (Трифонов – ни минуты не западник, Тарковский – подавно), не «советчики» с «антисоветчиками» (Самойлов был вполне советским и даже имперским, Эфрос – весьма правоверным), даже не русские с евреями (Искандер – перс, Любимов – русский, Казаков – русский, Битов – и подавно). Боролись озлобленные, завистливые и сервильные – с независимыми и талантливыми; провинциальные – со всемирно знаменитыми; мелкомстительные – с благородными. Впоследствии, когда все упростилось и оранжерея рухнула, все смешалось в доме Облонских, и масса бездарей, замаскировавшись под свободолюбцев, перебежала в лагерь так называемых «западников», «горожан», диссидентов и пр. Но никакими диссидентами все эти литераторы, которых в семидесятые травила литературная чернь, – опять-таки не были, и сами диссиденты относились к ним весьма настороженно. Происходила борьба холуйства и таланта – в чистом виде, и любые сегодняшние попытки представить дело как идеологический конфликт – ни к чему не ведут: тексты есть, и они говорят за себя.
Претензии Бушина к Окуджаве прямо не формулируются. Сначала следует несколько фактических придирок, оказавшихся вдобавок дутыми (Бушин утверждает, что револьвер «ле-фоше» в 1851 году еще не выпускался, – Окуджава в книжном издании специально делает сноску, что изобретатель револьвера подарил Мятлеву опытный экземпляр, а потом находит подтверждение тому, что «лефоше» преспокойно существовал уже в конце сороковых…). Затем – откровенное доносительство: все это с намеком, все не просто так!.. Видим, уважаемый, что с намеком; но ведь не подкопаешься. Формально-то у нас роман про николаевское царствование, нет? И тогда рецензент разражается откровенной, ничем не мотивированной бранью, потому что не фактические ошибки его злят и не грузинское даже происхождение Окуджавы, который смеет тут лезть в нашу русскую культуру, а пафос его книги, да-с, он самый-с, не спрячешься. Именно эта страстная мольба: дайте человеку быть человеком, ну что вы, в самом деле! А он не должен быть человеком, он должен служить; и на первом плане у него должна быть не любовь (ассоциирующаяся у запретителей исключительно с похотью), а интересы отечества; и служение этим интересам должно выражаться не в свободном и независимом творчестве, а в удушении всего живого, что видится вокруг, потому что только в этом и есть истинное величие, а главное – только это и создает в обществе атмосферу, при которой ничтожествам комфортно. Окуджава все это очень хорошо понял и ответил Бушину – и не только ему, разумеется, – изящным стихотворением 1983 года: