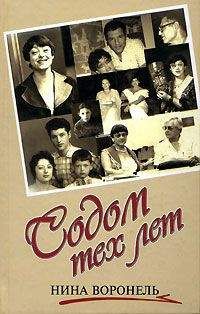Зал был полон, так что яблоку негде было бы упасть. Но яблоко соблазна из райского сада, брошенное Беллой со сцены, все же упало, раздробившись на мельчайшие крошки над головами слушателей, и каждому досталось по крошке, даже мне. Белла вышла на сцену, гордо закинув свою поразительно красивую головку и медленно покачивая бедрами, обтянутыми темно-розовым мохеровым свитером. Не знаю, что было надето под свитером, но в центре охваченной свитером розовой сферы отчетливо просматривалась нежная впадинка ее пупка.
Она начала читать – ее отлично поставленный глубокий голос произносил музыкально безупречные строки, но, мне кажется, никто не слышал ни слова, пока волнующий пупок под воздушной вуалью розового мохера вздымался и опадал в такт ее чтению. И все, – равно, и мужчины, и женщины, – потерявши разум и слух, исступленно смотрели только на этот пупок. На секунду в мое затуманенное колдовством сознание проникли обрывки слов:
«На белом муле, о, на белом муле,
В Ушгули ты уходишь навсегда!»
Тут обезумевший зал взорвался аплодисментами – такими, что чуть добавить, и не только яблоко, но и потолок мог бы упасть. Я не думаю, что всех так очаровал белый мул, а голосую за розовый пупок.
Через пару месяцев и мне довелось читать свой перевод с той же сцены. Я выбрала потрясающее стихотворение африканской поэтессы Эфуа Марии Сазерленд, начинавшееся словами:
«Меднокожая плоть в зеленом,
Уступи, уступить ты должна!
Я змей, я сосу по капле
Нерожденную жизнь из яиц,
Уступи, ты уступишь, как все!
Как люблю я страстную песню
Твоей упругой походки,
Но ей придется умолкнуть —
Я выжгу тебя дотла
Огнем, зажженным тобой.
Как люблю я литую колонну
Твоей обнаженной шеи, —
Но я разобью твой кувшин.
Как люблю я блеск твоей кожи,
Но я погашу его
Своей ядовитой слюной!»
И так до конца, до спасения прекрасной жертвы, против воли которой страшный яд оказался бессилен:
«Это значит, что время мое ушло,
Это значит, что яд мой теряет силу,
Это значит, что нежная плоть в зеленом
Никогда не уступит мне».
Зачарованная экзотической музыкой стихотворения чернокожей поэтессы, я читала щедро, от всей души, и была вознаграждена мощным обвалом аплодисментов. Назавтра два моих сокурсника по переводческому отделению, которых я считала своими лучшими приятелями, демонстративно перестали со мной здороваться.
Я очень огорчилась и не знала, что мне с этим делать. А нужно было процитировать им мудрую заповедь писателя Анатолия Алексина: «Не воспринимайте чужой успех, как личную трагедию». Но я тогда сама еще не знала этой заповеди – наверное, Алексин сообщал ее только своим собратьям по этажу в здании писательской иерархии, куда мне вход был закрыт. Зато теперь, когда это здание рухнуло, и мы с ним оказались на одной жердочке в одноэтажной времянке израильской литературной тусовки, он охотно делится со мной своими заповедями.
Но кое-какая мудрость у меня уже появилась и тогда – я понимала, что свой успех, пусть даже не одобренный всеми моими друзьями, я должна закреплять. Путь для этого был ясен – нужно было подавать заявление о приеме в Союз писателей. У меня уже накопились необходимые для этого шага реалии – кроме многочисленных публикаций в разных вполне престижных сборниках, у меня были две авторские книги, одна сборник переводов, другая – сборник собственных стихов для детей. Обе вышли в свет в издательстве «Детский мир» (впоследствии «Малыш»), меньше других отягощенном идеологическими веригами.
Вооруженная стопкой своих трудов, я отправилась добывать рекомендации в союз. Это нужно было делать с умом – чтобы мне с ходу не отказали, рекомендатель должен был быть достаточно авторитетным в глазах приемной комиссии. Мой выбор пал на поэта Александра Межирова, с одной стороны известного афористичными строками «Артиллерия бьет по своим», с другой – не зарекомендовавшим себя никакой подозрительной крамолой. Пользуясь определением моего очередного мастера, сценариста Ольшанского, – на этот раз на Высших сценарных курсах, – можно было сказать, что Межиров обладал истинным талантом. Ольшанский определял истинный талант как «умение пролезть в узкую щель между недозволенным и непорядочным», и сам был человеком несомненно талантливым.
Обратиться к истинно талантливому поэту Межирову меня побудил тот, на мой взгляд, истинный восторг, с каким он обратил внимание на мои переводы, прочитанные мною на одном из литературных вечеров в ЦДЛ. Я позвонила ему и, слегка заикаясь от смущения, с трудом выговорила, что очень хотела бы получить его рекомендацию в союз. В ответ на мою просьбу он очень любезно предложил мне принести к нему домой мои книги и рукописи и продиктовал адрес.
Нагруженная всем своим творческим багажом, я вошла в высокий прямоугольник серого каменного колодца, – возможно, это был знаменитый Дом на Набережной. В свой недавний приезд в Москву я искала во дворе этого дома музей Юрия Трифонова – он был очень похож на тот двор, среди многочисленных изгибов которого я нашла когда-то подъезд, названный мне Межировым. Я позвонила в звонок с обозначенным в адресе номером на шестом этаже. Межиров собственноручно открыл мне и через маленькую прихожую ввел в уютно обставленную комнату однозначно однокомнатной квартиры. Я выложила свои произведения на стоявший перед покрытой ковром тахтой круглый стол и охотно приняла предложение хозяина выпить с ним по чашечке кофе. Мы оживленно поболтали о последних событиях литературной жизни, и минут через сорок я с ним попрощалась, заручившись его обещанием вручить мне рекомендацию через три недели здесь же в семь часов вечера.
Ровно через три недели я без пяти семь вошла в уже знакомый мне серый каменный колодец. Сделав несколько шагов по асфальту двора, я с ужасом осознала, что не помню ни номера подъезда, ни номера квартиры. Холодные мурашки побежали по моей спине – время подходило к семи, а я понятия не имела, куда идти. Дело было то ли зимой, то ли глубокой осенью, и во дворе было совершенно темно, если не считать светящихся с четырех сторон одинаковых окон, только затрудняющих мои поиски. В душе у меня все выше поднималась затемняющая разум волна паники.
Я начала метаться из подъезда в подъезд, но все они оказались абсолютно на одно лицо. Тогда я принялась читать таблички на почтовых ящиках – к счастью, дом был очень благоустроенный, там были и почтовые ящики, и таблички. С огромным облегчением я обнаружила фамилию «Межиров» во втором или третьем из обследованных мною подъездов. Квартира, правда, почему-то оказалась на четвертом этаже, тогда как мне смутно припоминался шестой, но мне было не до докучных подробностей.