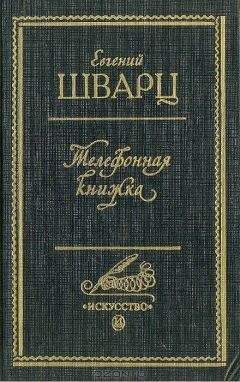Следующее имя — тоже Наташа, Наташа Грекова [176]— существо сложное, нежное и отравленное, словно принцесса какая‑нибудь. Дом, где она живет с детства, — на углу улицы Достоевского и Кузнечного переулка. Нет, второй или третий от угла. В самом рыночном, суетливом, с лотками, пьяными инвалидами — месте. А входишь в подъезд — попадаешь в мир, которого нет. И это тревожит, как будто вошел в комнату, где лежит покойник. Слишком широкие сени. Выложенная кафелем надпись «Добро пожаловать» по — латыни или французски: все рассчитано было на жильцов, которые уже не живут на свете. Единственная квартира уцелела тут с доисторических времен и при этом мало изменилась и сохранила прежних обитателей — квартира в бельэтаже, где проживал много — много лет Иван Иванович Греков[177]. Был он широко известный профессор, хирург. Славился в литературных кругах как человек своеобразный, резко выраженного характера. Дружил с его семейством и с ним особенно — Федин[178], но после романа «Братья» — разошлись. Показалось Грековым, что семья их изображена в романе и при этом не так, как следует. С Наташей мы познакомились в Коктебеле. Тоненькая, с лицом в самую меру длинным, как полагается девушкам этой породы, черные волосы, светлые глаза, едва заметный пушок на верхней губе, крошечный рот. Угадываешь сразу, что она из хорошей семьи. Но тут же чувствуешь ее обреченность. Или отравленность, как я уже говорил. Каким ядом? А тем, что одинаково губит детей академиков, генералов, королей. Невидимые оранжерейные яды. Итак, познакомились мы с Наташей в Коктебеле и осенью 32 года вошли в дом на улице Достоевского. Двери открыл нам Иван Иванович. Как всегда бывает в огромных семействах, на звонок долго никто не шел, каждый надеялся на другого, пока, рассердившись, сам профессор не отпер нам двери.
9 апреля
Мы увидели большую темную переднюю с зеркалом, столиком, картиной в овальной рамке, такой же темной, как стены, стулья с высокими спинками, пол с ковром. Иван Иванович показался мне старым, старше, чем ждал я по рассказам. Стариковская посадка белой головы, сутулость, седые усы вперед, прямо на тебя, словно бы для того, чтобы отстранить, бородка. Глаза небольшие, строгие, по — стариковски беловатые. Но все же, не глядя на возраст, на белизну сильно поредевших волос — он существовал, уж он‑то был весь в настоящем, не в пример дому и передней, где, как я узнал со временем, полагалось ждать пациентам. Иван Иванович считался одним из первых в стране хирургов. И завоевана была эта слава не случайно. Сразу угадывал ты человека недюжинного, нашедшего себя. И по — русски не раздувающего этого обстоятельства. Он, например, терпеть не мог, когда называли его профессором. Хотя имел это звание. Он знал себе цену. Но знал и цену славе. Не хотел ей верить. Он был серьезный человек, вот в чем дело. И он существовал. А у вещей и у стен вокруг вид был неуверенный, словно ждали они с минуты на минуту, что попросят их присоединиться к их племени, ушедшему на тот свет много лет назад. По длинному коридору прошли мы в огромную и тоже неуверенную в праве своем на существование Наташину комнату. Принцесса тоже была неуверена в себе, неуверена в нас и все поглядывала на отца — как мы приняты. А тот все отодвигал, отстранял меня усищами, чтобы отодвинуть подальше и разглядеть. Но вскоре отношения стали много проще. Он обожал Наташу и поэтому скоро признал нас. Им я восхищался, а Наташу обижал. Ее нежность, уязвимость, особое, вечное беспокойство по поводу того, как относятся к ней друзья, рассеянность, слабость были мне очень уж знакомы по мне самому. И я вечно придирался к ней, был попросту жесток. Но у Грековых любил бывать. Признаки времени, двух времен выступали там.
10 апреля
И меня трогала приязнь человека в этом направлении не слишком щедрого, во всяком случае разборчивого. По мере того, как открывалась нам комната за комнатой — все отчетливее выступала призрачность обстановки. Она умерла, но не сдавалась. В столовой и комнате хозяйки висели картины, все небольшие, в золотых рамках. На рамках — таблички с фамилиями художников. Когда‑то были они, вероятно, ценимы, эти художники, почему‑то все больше французы — но умерли и вымерли и ценители, и они сами. А главное, умерла и школа. И страшновато было, когда ты вдруг понимал, что всех этих покойников принимают за живых. А они умерли настолько недавно, что запах тления еще носился вокруг них. Самая большая комната — кабинет Ивана Ивановича был темноват по тонам. И носил подчеркнуто полемическо — русский характер: кресло, письменный прибор. И это очень, очень русскому Ивану Ивановичу — не слишком шло. Как не нужно ему было звание профессора. Национальность угадывалась по признакам более драгоценным, как и его мастерство. Семья Ивана Ивановича была велика. И самой страшной, трагической фигурой был первенец его, тоже Иван Иванович. Тоже врач. Лет за семь до нашего знакомства он сошел с ума внезапно. Припадок буйного сумасшествия. Диагноз — шизофрения. И в течение семи лет жил он в семье, в огромной этой квартире. Не хватало духа отвезти его в сумасшедший дом. Санитар ходил за ним — припадки буйства случались у него часто и без всякого внешнего повода. И вдруг Ваня — так звали его дома — поправился так же внезапно, как заболел. Семь лет болезни выпали из его сознания. Молчаливый блондин, среднего роста, с лицом странным, бессмысленным, появлялся за столом. И все помалкивал. Он не то, что был задумчив, а как бы ни о чем не думал. И все мне казалось, что он вот — вот заболеет снова. Однако он здоров до сих пор. И работает.
11 апреля
Следующая по возрасту, после Ивана Ивановича, была дочь. Как ее звали? Нелли. Елена Ивановна. Вот у нее не было и признака аристократической обреченности, что все время так и сказывалась в Наташе. Но и отцовских черт она не унаследовала. Была похожа на мать. И по примете — не была счастлива. Лицо красивое, но портило его недоброе выражение. Как понял я много позже — она была никак не зла, а только сердилась на нескладную свою судьбу. Была она в те дни замужем, но как‑то непонятно. Как будто неудачно. Наташа осторожно намекала, что они вот — вот разойдутся. И жили они как будто розно. Муж, в морской форме, тонкий, молодой, высокий, с лицом жестоким, со слишком светлыми глазами, вечно под хмельком, и в самом деле, очень уж не подходил ко всему грековскому укладу. Даже когда пел под рояль песенку Вертинского о кораблях в забытых гаванях. Кроме родных детей, в одной из комнат огромной квартиры жила беленькая, болезненно застенчивая девочка — подросток. Очень нервная, замученная призраками умерших комнат. Нет, не подростком она была, а девушкой лет семнадцати. Следующей за столовой была комната матери семейства Елены Афанасьевны[179]. Женщина высокая, в меру полная, скорее осанистая, с очень ясными следами замечательной красоты. Она была членом Союза писателей. По старому, еще дореволюционному уставу — автор, выпустивший в свет книгу, имел право войти в союз. У Елены Афанасьевны вышла некогда книга рассказов[180]. Каких? Кто знает. Дома о них не говорилось. И у нее в семейной жизни не все ладилось. И у нее выражение лица было обиженным. И кроме того, ошеломленным. Она все откидывала голову гордо и при этом глядела с таким выражением, будто не совсем ясно понимает, что ей говорят. Где‑то в недрах квартиры обитала древняя, совсем белая немка, гувернантка, вырастившая грековских детей. Двигалась она медленно, плавно. Ведала хозяйством. Подходила к телефону и вместо «я слушаю» говорила «я сюсю».