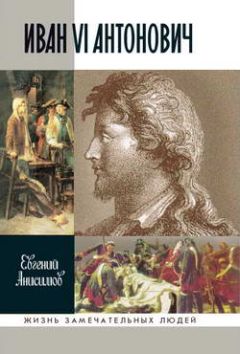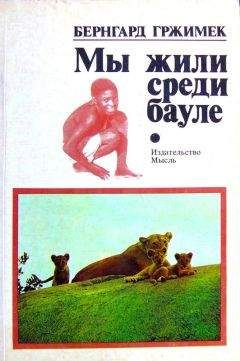На самом деле все было как раз наоборот. Лишь после смерти Анны дипломаты это поняли. Тот же Финч сообщал 18 октября в Лондон, что «с неделю тому назад (10–11 октября. – Е. А.) царица почувствовала было некоторое облегчение, но затем проявились новые крайне тяжелые симптомы. Они усиливались со дня на день, но это ухудшение хранилось в строжайшей тайне».[126] Бирон, не выходивший из спальни больной, был лучше других осведомлен об истинном состоянии государыни. Возможно, что именно к этому времени стало сбываться упоминаемое в показаниях Бирона 1741 года предупреждение архиатера Фишера, что «ежели болезнь так будет продолжаться, то-де, в два дни жизнь… императрицы прекратиться может». При этом, повторю, о реальном состоянии государыни почти никто не знал. Бирон, изолировав императрицу, сознательно дезинформировал общество и – как значилось в заключении следствия о его преступлениях – тем людям, «кто о дражайшем Ее величества здравии у него, Бирона, или у его фамилии, спрашивали, на оное, всех обманывая, ответствовал, будто бы Ее величество от имеющей болезни есть свободнее, и такие обманы употребляя до самой блаженной кончины, к Ее величеству никого не допускали… хотя у Ее величества жестокая болезнь час от часу умножалась».[127] Эта тактика замалчивания реальной картины болезни императрицы отразилась и в приведенной выше беседе Остермана с Шетарди.
Несомненно, обстановка во дворце была крайне напряженная. Все наблюдатели отмечают, что Бирон тяжело переживал болезнь императрицы, сильно нервничал. Временщик волновался не зря. Он понимал, что если императрица умрет, не подписав Акта нужного ему содержания, то правителями при императоре Иване могут стать родители младенца, а не он, герцог Курляндский. Между тем прогнозы личного врача императрицы стали сбываться. Через неделю после первого приступа ей вновь стало хуже – дипломаты делали вывод об этом по тому, как во дворец вновь, на ночь глядя, отправлялись видные сановники вроде Остермана и Миниха – в обычной обстановке они почивали дома, в своих постелях. Значит, заключали те, кто наблюдал непрерывные передвижения сановных экипажей, государыне плохо и во дворце идут, за завесой тайны, срочные и важные совещания о престолонаследии. Так это и было.
Известно, что после провала попытки получить подпись государыни под Актом Бирон и его сторонники снова пытались убедить императрицу подписать документ. Этим занимался, как показано выше, Бирон, да и Бестужев признавался, что, «один остався у Ее величества, в пользу его (Бирона. – Е. А.) Ее величества склонять дерзнул».[128] Но все было тщетно. В донесении Финча, которое я уже цитировал выше, сказано, что с 11 октября здоровье императрицы ухудшилось и «хунта» сторонников Бирона «предложила вновь отправить графа Остермана к государыне, дабы он, если сможет, <узнал> подписала ли она документ о регентстве. Ее величество дала, однако, только общий ответ в том смысле, что ее воля и решение откроются по кончине ее».[129]
Короче говоря, ситуация для Бирона складывалась весьма неблагоприятная. И тогда было решено воздействовать на упрямую государыню иначе: подать ей челобитную высших государственных сановников с выражением полной поддержки Бирона и с просьбой провозгласить его регентом. Миних-сын писал, что сановники «за нужное нашли о сем единогласном мнении своем письменное императрице сделать представление и утруждать просьбою, дабы Ее величество, всемилостивейшее одобрив оное, благоволила герцога Курляндского склонить к принятию регентства».[130] Эта челобитная, подписанная лишь персонами 1-го и 2-го классов, была, как сказано на следствии, «в действо произведена».[131] Но что это значит, сказать точно мы не можем. Известно, что князь Трубецкой отдал подготовленную им (или кем-то другим?) коллективную челобитную самому Бирону для передачи государыне. С этого момента названный документ исчезает из поля нашего зрения.[132] Возможно, до императрицы верноподданнейшее прошение так и не дошло или аргументация челобитной показалась самим ее инициаторам неубедительной. Тогда они придумали начинание посерьезнее. Подозревая – и не без оснований – колебания сановников (вполне объяснимые упорным молчанием умирающей императрицы) и не доверяя им (всем было известно, что, например, Остерман всегда раньше держал сторону Брауншвейгской фамилии), Бирон начал действовать более решительно, как говорится, на опережение – по принципу: теперь или никогда! Он задумал прорваться к власти и без завещания императрицы. В своих записках он пишет, что, «убедясь, наконец, что в течение нескольких дней все еще не произошло никакого решения, государственные сановники согласились сделать меня регентом даже и в том случае, если бы государыня скончалась, не успев утвердить Акта о регентстве и, следовательно, не сделав никаких распоряжений о государственном правлении». И далее: «Для того же, чтобы лучше успеть в своем намерении, сановники пригласили в собрание все чиновные лица, до капитан-поручиков гвардии. Таким образом, около 190 лиц, собравшихся в Кабинете, добровольно обязались действовать в пользу назначения моего к регентству».[133] Ниже он пишет, что узнал об этом только сутки спустя и несказанно удивился – как можно так поступать без его ведома! Но Бирон, сочиняя эти строки, явно рассчитывал на простодушных людей, к которым мы с вами, читатель, к счастью, не относимся. Бывший фаворит излагает события весьма произвольно. Из рассказа Бирона следует, что за его спиной образовался чуть ли не целый заговор высших должностных лиц в его пользу, а он об этом даже не знал! На самом же деле новая попытка утверждения фаворита регентом была инспирирована им самим, а исполнителями стали те же люди, та же «хунта» – Бестужев-Рюмин, Трубецкой, Бреверн и др. Они составили новое челобитье, названное «Позитивной декларацией».[134] Писал ее под их диктовку, как и прежде, кабинет-секретарь А. Яковлев. Смысл декларации сводился к тому, что не просто восемь сановников, а «вся нация Бирона регентом желает». По словам Бирона, Бестужев в тот момент говорил патрону: «Ежели-де Ея императорское величество оное (завещание. – Е. А.) не подпишет, то оное дело уже совсем от всех классов даже до капитанов-лейтенантов от гвардии <может быть> апробовано».[135] Об этом пишет и Финч: после неопределенного ответа больной императрицы Остерману «хунта» предложила составить некое заявление от имени высших чинов «о том, что до совершеннолетия наследника провозгласят регентом герцога Курляндского в случае, если царица не сделает какого-либо иного распоряжения или вовсе не распорядится о регентстве».[136]