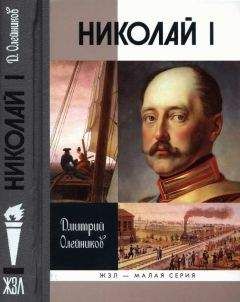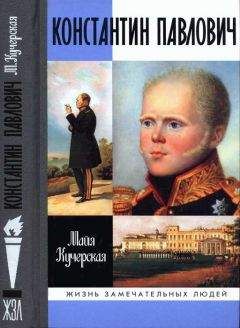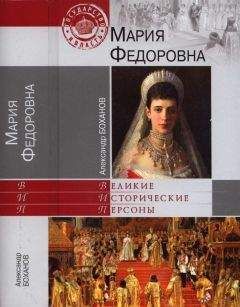Барону Андрею Розену, который «лично действовал в мятеже, остановив свой взвод, посланный для усмирения мятежников», Николай объявил: «Тебя, Розен, охотно спасу!» (Розен, офицер Финляндского полка, служил в бригаде Николая.) В реальности это выразилось в том, что Розен, осуждённый Верховным уголовным судом на десятилетнюю каторгу и на поселение «навечно», был отправлен в Читу, где каторги в настоящем смысле слова не было. Как вспоминал сам «каторжанин»: «Каждый день, кроме дней воскресных и праздничных, в назначенный час входил в острог караульный унтер-офицер с возгласом: "Господа! пожалуйте на работу!" Обыкновенно выходили мы с песнями хоровыми, работали по силам, без принуждения: этим снисхождением были мы обязаны нашему коменданту…» В 1834 году Розен был выпущен на поселение, а в 1837 году получил возможность вернуться в Европейскую Россию через службу на Кавказе. Отслужив год рядовым, Розен вышел в отставку: «Я сел к письменному столу, и прошение моё на имя графа А. X. Бенкендорфа, который всегда был лучшим мировым посредником, было готово в полчаса»; «на представление Бенкендорфа от 10 января воспоследовало всемилостивейшее увольнение меня вовсе от службы, с тем, чтобы я жил безвыходно на родине под надзором полиции». Позже декабрист участвовал в делах эпохи Великих реформ и умер в Лейпциге в 1884 году восьмидесяти пяти лет от роду.
Впрочем, Николай не только спасал осуждённых. Параллельно с собиранием признаний шла работа по оправданию несправедливо оговорённых. Ведь император объявил: «Мы арестуем не в поисках жертв, но чтобы дать оправдаться оклеветанным»[162]. Делопроизводитель Боровков то и дело фиксировал в журналах заседания заключения вроде таких:
«Допрос гвардейской фурштате кой бригады 3-го баталиона рядового Фёдора Федощука, взятого по подозрению, что он на Сенной площади подслушивал разговоры крестьян, и рапорт генерал-адъютанта Нейдгарта, что Федощук поведения отличного и по службе несёт звание старшего ротного ефрейтора. Положили: как Федощук не только не уличен в том, чтобы участвовал в возмущении, но даже и к делу сему нимало не прикосновен, то об освобождении его из-под ареста испросить высочайшее соизволение».
«Военный министр объявил: Северского конно-егерского полка майор Гофман прощён и высочайше повелено причислить его, Гофмана, к учебному кавалерийскому эскадрону…
…Полковника Глинку освободить и бумаги его, если в них ничего не найдётся подозрительного, ему возвратить. Положили: как в бумагах его ничего подозрительного не найдено, то о возвращении оных представить его императорскому величеству»[163].
Отпуская Глинку, Николай Павлович сказал: «Не морщиться и не сердиться, господин Глинка! Ныне такие несчастные обстоятельства, что мы против воли принуждены иногда тревожить и честных людей… Скажите всем вашим друзьям, что обещания, которые я дал в манифесте, положили резкую черту между подозрениями и истиной, между желанием лучшего и бешеным стремлением к перевороту — что обещания эти написаны не только на бумаге, но и в сердце моём. Ступайте, вы чисты, совершенно чисты!»[164]
А по городу почти сразу начали бродить слухи о возможном новом восстании. Якобы готовился взрыв Казанского собора и в подземельях его обнаружены большие запасы пороха. Французский посол Лаферронэ, с которым Николай бывал довольно откровенен, сообщал, что «император ежедневно получает анонимные письма с угрозами его жизни, если инициаторы заговора 26 декабря будут приговорены к смерти. Полиция пока ещё не сумела раскрыть авторов этих преступных сочинений, одно из которых совсем недавно было ему передано лично в тот момент, когда император садился на лошадь. Его Величество не обнаруживает никакого страха и продолжает как ни в чём не бывало показываться на публике и совершать свои обычные прогулки. Здесь повторяют слова государя, делающие ему честь: "Они хотят сделать из меня тирана или труса, но они не преуспеют ни в том, ни в другом"».
То, что он не трус, Николай показал 14 декабря. То, что он не тиран, император намеревался показать организацией политического процесса. Его порыв немедленно покарать виновных уступил место стремлению провести максимально тщательное и объективное следствие, а затем устроить суд. Хотя император мог, как замечал тот же барон Розен, составить из членов Следственного комитета военный трибунал и «решить дело в 24 часа без помощи учёных законоведов. Просто вызвали бы военного аудитора, который указал бы на статью Устава, по которой кадровые военные, вышедшие с оружием в руках против государственной власти, должны бы были быть "аркебузированы", — и всё закончилось бы скорым расстрелом»[165].
Вместо этого Николай провозгласил: «Закон изречёт кару». Император, как отмечал Бенкендорф, «желая дать этому делу полную законность и общественную гласность», повелел создать Верховный суд, в который вошли «сенаторы, министры, члены Государственного совета и наиболее отличившиеся военные и гражданские лица, которые в это время находились в столице». Эти 72 человека — вся правительственная верхушка по состоянию на 1826 год, за исключением, во избежание предвзятости, тех, кто вёл следствие! Разработкой важнейших документов судопроизводства занимался очищенный от подозрений Сперанский, один из наиболее заметных либеральных деятелей эпохи, блестящий знаток законодательства.
По мнению Бенкендорфа, «никогда ещё суд не был столь представительным и независимым». Каждому обвиняемому, одному за другим, был задан вопрос, «не хотят ли они что-либо добавить в свою защиту, желают ли подать какую-либо жалобу на проведение следствия или не имеют ли возражений против того или иного члена комиссии». В ответ, как пишет Бенкендорф, «обвиняемые заявили, что использовали все способы оправдаться, и что им осталось только поблагодарить за предоставленную им свободу действий с целью защиты».
Законы того времени были суровы. «Военный кодекс, так же как и гражданские законы, предусматривал наказание смертной казнью», — уверял Бенкендорф. Он подчеркивал, что на этом фоне «желание судей, а также и Императора заключалось в том, чтобы наказывать мягко, ведь все заслуживали смерти». Здесь мемуарист видит очевидное преимущество самодержавной власти, способной подняться над холодным бездушием буквы закона. «Император внимательно изучил приговор Верховного трибунала и изменил строгость законов: только пятеро были приговорены к повешению, другие — к пожизненной каторге, менее виновные — к различным срокам каторжных работ, некоторые ссылались в Сибирь в качестве колонистов; самое слабое наказание было в виде нескольких лет или месяцев заключения в крепости». Кроме того, Александра Осиповна Смирнова-Россет вспоминала, что Михаил Павлович выступал «совсем против смертной казни», и император был этому «только рад»[166].