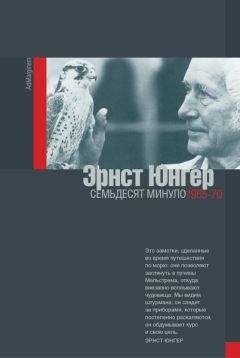В песке играли полуголые дети; большая собака неопределенной породы с вывешенным языком чесалась в тени и хвостом отгоняла рои мух. Крайний предел приятного изнеможения был снова достигнут.
НА БОРТУ, С 3 ПО 12 АВГУСТА 1965 ГОДА
Если мы лишь кратко касаемся такой страны, как Япония, вскользь пройдя по ней, как это стало обычным при современном способе путешествовать, то мы, как при первом взгляде на рукопись, больше внимания обращаем на характерные контуры, чем на текст и содержание — скорее на начертание, чем на буквы. Так видишь сны, и видишь ярче, чем толкователи снов. Подлинная сила таится в неистолкованном.
Приведу пример: еще в Гонконге меня изумила власть шрифтовых знаков. Там, по крайней мере в центральных частях города, сбоку почти всегда помещен перевод, выполненный римскими маюскулами. Когда взгляд касается этой комбинации знаков, она напоминает сочетание цветов и веточек: цветы — идеограммы, веточки — буквы. Данное обстоятельство ведет в самую суть различий зрительного восприятия и понятий — в различения, которые неисчерпаемы. В каждом письме скрывается если не большее, то, во всяком случае, еще что-то помимо того, что должно им сообщаться.
Начни я разбирать тот или иной шрифтовой знак, это привело бы к уценке неистолкованного. Я размышлял об этом, глядя из окна поезда на большие разрисованные вывески перед рисовыми полями. Красивые знаки, некоторые из которых напоминали бурбонские лилии, другие — хризантемы, третьи — камышовые хижины, говорили сами за себя. Что бы я выиграл, если бы узнал, что они расхваливают лимонад или марку автомобиля?
Если ты хотел продвигаться дальше, то должен был бы, как один китайский литератор, рисковать жизнью. Для этого у нас есть другие области — мы же снова и снова окольной дорогой знания возвращаемся к красоте истоков. Детство и старость замыкают круг.
То же и с языком — в иностранных портах, почти в упоении, мы слышим в их мелосе не меньше, а больше, чем если бы понимали текст: в последнем случае общее сглаживало бы частности.
Физиономии рисуют нам тип. В невысказанном он действует сильнее, чем в индивидуумах. Он может обостриться — тогда он становится однозначнее. Он приближается, как если бы мы, рассматривая одну и ту же фигуру, оптимально сфокусировали бы бинокль. Перед зданием полиции в Киото я увидел ряд вывешенных объявлений о розыске и задержании скрывающихся преступников и невольно спросил себя, какой смысл это могло иметь в мире, где все лица похожи одно на другое как две капли воды. Тем не менее, розыскная служба там эффективна, я лишь стал жертвой оптического обмана путешественника.
Тип показывает больше и меньше, чем индивидуальная деталь. Мы воспринимаем лица, как на картине художника, который знает, что один из принципов его искусства заключается в сохранении зазора между ними. Я хорошо понял это в Кийо-таке, провинциальном городке в окрестностях Никко, куда мы поехали с друзьями, чтобы посмотреть ночной танец летнего солнцестояния.
Танец, в котором мог участвовать каждый, по круглой широкой площадке двигался вокруг башни с капеллой. Музыканты, регулярно ударяя в барабан и еще в какой-то звонкий инструмент, вероятно колокольчик, повторяли простой четырехтактный цикл:
«ти — тин — та — тбм».
На танцорах обоих полов были надеты летние кимоно в шахматную клетку, в руках они держали широкополые плетеные шляпы. Они медленно кружились в такт, каждый сам по себе, и время от времени тыльной стороной поднимали вверх шляпы. Шел дождь; мы стояли среди тесно сгрудившихся зрителей под плоскими бумажными зонтами.
Здесь лица, прежде всего лица девушек, становились тем проще, чем больше они погружались в транс: светлые овалы с крохотными носиками, почти без бровей, глядя полузакрытыми глазами вверх и улыбаясь, словно в счастливой мечте, тогда как влажная одежда прилипала к телам, а капли дождя, будто слезы, жемчужинами текли по бледным щекам. Полуночный пруд с кувшинками и раскрывшимися цветами лотоса.
Вторая круглая площадка располагалась рядом почти зеркально. На обеих без перерыва танцевали до изнурения, тогда как капеллы чередовались. Здесь, похоже, не было посторонних; я заключил это из того, что нас пригласили на крытую террасу и там угощали — просто, пивом и жареными бобами, но с изысканной вежливостью. Как я услышал, здесь собрались на праздник горняки.
Повсюду, где еще так танцуют, Земля приветлива, и опасность того, что она вдруг заговорит по собственному почину, начнет выражать свою волю гораздо меньше.
* * *
Японский студент сегодня ненавидит войну, вероятно, сильнее, чем молодежь остального мира, не считая китайской. Причины говорят сами за себя. Слово «война» со времени Хиросимы и Нагасаки превратилось в строжайшее табу; и дело не столько в слове, сколько в обстоятельствах. Таким же сомнительным, если бы ты побывал в обществе каннибалов, оказалось бы слово «мясо». На тебя сразу упало бы подозрение, что ты издавна питался человеческим мясом, и в этом есть что-то верное.
Во время Второй мировой войны здесь тоже от всех требовалось предельное напряжение — от гарнизонов, которые до последней капли крови сражались на островах, от женщин на фабриках, от летчиков с белыми налобными повязками. Ответной реакции в виде крайнего скепсиса было не избежать. Проявления его нам известны: отвращение к мундиру, флагу, гимну, идеалу боевого рыцарства. Прибавим к этому чувство вины (здесь в отношении китайцев): обморочное застывание в низком моральном поклоне.
Император тоже претерпел ослабление, разумеется, скорее в сути, чем в авторитете, на который даже коммунисты не посягают. Его поведение, конечно, отличается от поведения наших властителей. Ему больше ничего не оставалось делать, как утверждать решения правительства, и не он начал войну, но вот оканчивал своими силами. Когда возник вопрос о возбуждении против него судебного процесса, он был готов предстать перед судом, но не вдаваться в подробности — как носитель полной и нераздельной ответственности.
Духовное положение молодого поколения после проигранной войны сходно с немецким — в то время как в странах-победительницах, в Америке, в России, даже во Франции, еще есть герои, например, герои Красной армии, освобождения, сопротивления, побежденные в этом отношении оказываются «далеко впереди». То, что еще осталось от традиций и этических обязательств, выкорчевывалось с огромным старанием. На отходах собираются навозные мухи.
То обстоятельство, что здесь это имело более серьезные последствия, чем у нас, объясняется международным положением. Если распри в Европе стояли под знаком всемирной гражданской войны, то Япония вела настоящую национальную войну, которая обострялась расовыми различиями. Адаптация технических средств, стало быть, одежды и оснащения гештальта Рабочего[134], которая началась в 1868 году с реставрации Мэйдзи[135], тоже протекала гораздо радикальней, нежели в странах длинноголовых жителей северной Европы, где эти средства зародились. Международному языку техники здесь пришлось выучиваться как иностранному языку: сразу и без переходных периодов.