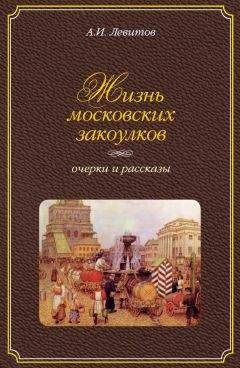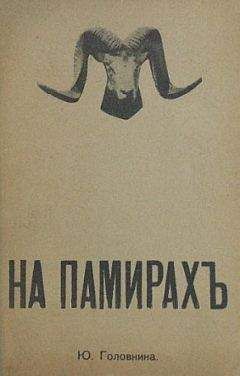– Вы вот что, ваше благородие, – говорит наконец будочник, окончательно завоеванный барским рассказом, – вы подождите на минуту говорить. Я вот по соседству в кабачок сбегаю, полштофика да селедочки захвачу. Заодно уж. Кстати взгляну, дежурный нейдет ли.
– Ах, барин, барин! – задумчиво и печально произносит Матрена, смотря на гостя. – То-то, погляжу я на тебя, горя-то на своем веку много ты нахлебался!
– Вволю хлебнул всего: и горя, и радости, мать ты моя! Ведь вот теперь, признаться сказать, не по моей бы губе ваш чай, не привык я пить такого; однако же пью, и сроду, кажется, сласти такой не видал. Вот до чего голоден!
– О, о-хо-хо! – простонала Матрена. – А мы, грешные, все-то завидуем господам, все-то мы думаем, что у них горя-то и в помине нет.
– Как же! Больше вашего еще. Ты не гляди, что они сладко едят да одеваются чисто. Ты вот, например, сошла с места, нет у тебя квартиры, нет денег, так ты в любом месте у своего брата ночевать за Христа ради выпросишься, а барину-то стыдно христарадничать. Вот я которую ночь на улице сплю…
– Барин хороший, да ты ноне-то хошь у моего в будке переночуй; все же теплее. Отдохнешь по крайности…
Умел Бжебжицкий толковать со всякого рода бедностью, и она его, и он ее до слова понимали.
– Я теперь ничего не боюсь, – говаривал прапорщик, – ко всему привык и у самого даже бедного человека, что бы только ни захотел, все могу выпросить. Опять же и устроился я чудесно: всякое место для меня хорошо и скверных случайностей не существует.
Москва. Охотный Ряд. Фотография начала XX в. Частный архив
Говорит это прапорщик, а сам (беззаботный такой!) сидит на своем изорванном диване и болтает ногами. Его апартамент смотрел тогда тоже как-то особенно беззаботно, словно бы это был не человеческий апартамент, а птичье гнездо, оставленное своими первоначальными хозяевами и служащее теперь местом отдыха и ночлега для разных перелетных птиц. Его пустота не страшила собой даже непривычных, посторонних глаз. Три легких соломенных стула, ломберный стол, за отсутствием надлежащего количества ног прислоненный к стене, этажерка с пылью и гравированное изображение какой-то красноватой и пухлой женщины с надписью: «L'innocence»{70}, бог весть кем и когда повешенное на стену, оклеенную разводистыми обоями, – все это вместе с прапорщиком как будто сейчас же готово было вскочить на никогда не устающие ноги и бежать за благородными жизненными средствами в первую лавку, где, по слухам, удобно было прихватить кое-что по мелочи, a bon credit{71}. Готово все это было, сказываю, без устали бегать по лавкам, по жидкам и по русским ростовщикам и ростовщицам – остепенившимся бабешкам, с целью отыскания у этого люда кредита, – прыгать и весело хохотать, ежели находился таковой кредит, и, не задумываясь, не печалясь, равнодушно расстановиться по прежним местам, ежели борода, так сказать, выметала из лавки прапорщика, а жидки и остепенившиеся бабешки просили у него какого-нибудь ценного залога.
Говоря вообще, из всего того, что обставляло темную жизнь Бжебжицкого, только один черный кобель его был невозмутимо солиден и серьезен, каковое, впрочем, кобелиное качество нисколько не делало прапорщика заботливее, а, напротив, подавало ему нескончаемые поводы к разным штукам, которые обыкновенно смешили большей частью нахмуренных жильцов комнат снебилью.
– Господа! – часто крикивал Бжебжицкий через стену своим соседям. – Идите ко мне, кто, как говорят хохлы, хочет позакусить трохи. Цампа{72} будет за нас философствовать, а мы, как говорят русские мужики, клюнем безделицу.
Штука эта, когда униженные и оскорбленные соседи Бжебжицкого, вняв его предложению клюнуть, предоставивши философию исключительно на долю Цампы, – по крайней мере в моих глазах, исполнена глубочайшего интереса. О том, с каким бешеным остервенением предается выпивке физически и нравственно исстрадавшаяся бедность, можно судить по следующему, совершенно справедливому, анекдоту. У меня был один приятель, тоже из мира комнат снебилью, теперь старик уже, – башка, бывшая некогда при самом Денисе{73} штаб-ротмистром, угорелый пафос которой простерся в былые годы до того, что, раззадоренная однажды лихой песней бессмертного в летописях московских кутил цыгана Илюшки{74}, она бросила ему семьдесят тысяч, по тогдашнему счету – на ассигнации, а сама осталась в одном раззолоченном мундире, при светлой сабли, полосе и с пол-аршинными усами…
– Старичина! – спросил я однажды у этой башки, когда мы были с ней в гостях у двух братьев, степных помещиков, приехавших в Москву просадить четыре тысячки рублишек, по нынешним уже счетам – на серебро. – Старичина! – сказал я, – какие бесы помогают тебе вырезывать такие страшные стаканищи?
– А это, – ответил старичище, улыбаясь и покручивая свою сивую растительность, – это, говорит, братец ты мой, мне не бесы помогают, а сугубое представление, что завтрашний день на моем столе не только этой благодати не будет, а даже и рюмочки простой кокоревщины{75}…
Вот что мне сказал проерыжничившийся{76} старичина, и, следовательно, бог с ней, с этой бедностью, когда она обжирается за чужим столом, и даже бог с ней и тогда, когда она опивается на чужие деньги, ибо и бедность, по моим теориям, есть не что иное, как живой человек, который, по пословице, хочет калачика, как и всякая живая душа.
Готовее всех и, следовательно, прежде всех являлся на закуску к прапорщику некто Сафон Фомич Милушкин – личность, принадлежавшая в дни своего младенчества к какому-то мудреному старообрядческому согласию. Это был маленький, с красноватым лицом, человек, вечно думающий о чем-то, робкий и как будто однажды навсегда испуганный какой-то страстью. В комнатах снебилью он прославился своей, так сказать, пламенной любовью к выпивке, отличным умением петь в подпитии разные старинные псалмы и поистине поэтическими рассказами о своей прошлой жизни, о пугающей среде, в которой она началась, и о тех совершенно невероятных причинах, вследствие которых Сафон Фомич разорвал всякую связь с этой средой.
Когда Милушкин находился в трезвом виде, самый искусный дипломат не мог бы добиться от него ни одного слова. Бывало, какой-нибудь франт, наскучивши свистать и маршировать по своей трехаршинной келье, придет к Сафону Фомичу, сядет около него и начнет:
– Ну что, Сафон, как дела? Что ты намерен теперь делать? Сафон молчаливо переходил от франта на другой стул и принимался молчать, если можно так выразиться, еще усиленнее и как бы озлобленнее.