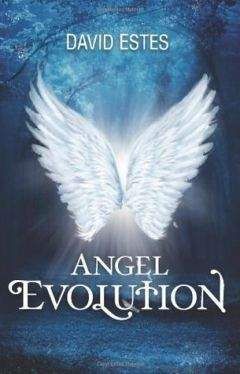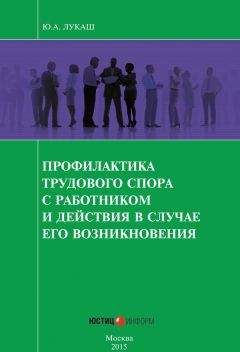«Имею счастье быть и проч. Николай Раевский, генерал от кавалерии»[76].
В Полтавской губ. Александр Николаевич оставался заточенным довольно долго; еще год с лишним спустя он только по специальному разрешению мог съездить оттуда к умирающему отцу. После смерти отца, когда его мать и сестры уехали жить в Италию, он заперся в Болтышке, чтобы привести в порядок расстроенное хозяйство и исправно посылать им деньги на жизнь. Из экономии он не завел своего стола, а ел то, что ела застольная, и одевался почти так же. Это продолжалось года три. За это время Болтышку посетила холера, и он сделал все возможное, чтобы облегчить бедствие, не жалея трудов и нимало не думая о себе; он всегда интересовался медициною. Самоотвержение, выказанное им при этом, могло быть обусловлено не столько альтруизмом, сколько известным складом характера; но в то время, говорят, один из его знакомых выразился по этому поводу: «Пушкин его демоном зовет, а люди в Болтышке ангелом». – Потом он получил право жить в столице, поселился в Москве, женился, скоро овдовел и затем весь отдался воспитанию своей малютки– дочери. Потом и дочь выросла и вышла замуж (за гр. Ностица), и уже не на что было тратить остаток так бесцельно растраченных душевных сил. Знавшие его рассказывают о сильном впечатлении, которое произвела на него книга Бокля; он прочитал ее всю сразу, – а увлекшись какой-нибудь книгой, он имел обыкновение ложиться в постель и приказывал затворить ставни в комнате, зажечь лампы и никого не впускать. Последние несколько лет он жил в Ницце, где и умер на 74-м году, 23 октября 1868.
И отца, и мужа, и братьев, и всех сестер пережила Екатерина Николаевна Орлова, умершая только в 1885 году.
Глава вторая
В. С. Печерин[77]
Глава третья
Н. В. Станкевич{25}[78]
Станкевичу идет 20-й год (он родился в 1813-м). Он мил, изящен, умен и беззаботен. Со стороны глядя, можно подумать, что он счастлив и живет непосредственно всем существом. Но это не так: едва заметная трещина уже бороздит его ясный образ. Ему чего-то недостает, какое-то неясное чувство томит его минутами. Что же это? – Это избыток душевной энергии, не находящей исхода, не тяжкая мука душевного страдания, а светлая опьяняющая грусть, от которой сердце ширится и на глазах выступают слезы.
Душа полна через край, хочется перелить в чужую душу избыток чувства, но люди или не понимают, или скажешь совсем не то, что хотел сказать, «потому что человек, которому говоришь, как-то самым видом своим сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое»{26}. Пришел с лекций, подурачился, поболтал с товарищем, послал Ивана в книжную лавку за книгой, а сам, переодевшись, сел к столу, раскрыл Коха и… задумался; что-то проскользнуло по душе, что-то в ней зашевелилось, и быстро, как летнее облако, надвинулось знакомое чувство – полу-грусть, полувдохновение. Невыносимо! Пробуешь излить душу в стихах – стихи не клеятся, возьмешь аккорда два на фортепиано, но звуки режут слух, – а сердце сильно бьется, на глазах слезы, и, кажется, одно небольшое напряжение, и чувство хлынет наружу. Станкевич определяет это душевное состояние, как безнадежность соединиться с тем, к чему душа стремится; а чту это, к чему стремится его душа, он не знает. Счастлив, кто в такие минуты сильно полюбит, еще более счастлив художник, который разрешает это хаотическое чувство, воплотив его в стройном создании. А Станкевич не поэт и не любит; оттого его волнение бесплодно перегорает внутри и мучит.
Станкевич сам спрашивает себя, почему на него часто находит эта тоска, и перебрав разные причины – болезнь, заботу об экзаменах и пр. – решает положительно: потому, что он живет
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви{27}.
Его жизнь кажется ему сухой, скучной, досадной: «душа просит воли, ум пищи, любовь предмета, жизнь деятельности»{28}. Иначе сказать, избыток чувства ищет овеществиться: ему нужно из смутного волнения превратиться в определенное упоение.
Для человека, который, как Станкевич, лишен творческого дара, упоение вне любви достижимо лишь пассивным путем: он неспособен внутри доводить свое чувство до гармонического аккорда, ему нужен для этого внешний стимул. Наилучшим таким стимулом является искусство. Переживая вслед за поэтом или его героем волнующие их ощущения, душа живет полною жизнью, избыток чувства неопределенного, хаотического, выливается в реальные, хотя и чужие, формы, мучительная своей бесформенностью Sehnsucht[79] уступает место стройной, осмысленной полноте чувства. Он советует Неверову прочитать два стихотворения Козлова: «На отъезд» и «Новые стансы»{29}. «Когда душа твоя будет в неопределенном грустном состоянии, прочти их: ты сосредоточишься, и тебя обнимет грустное, гармоническое чувство. Я вчера сидел неподвижно, повторяя стихи гладкие и задумчивые!»{30} Он – не Миньона, его не обманула любовь, безнадежность не воскрешает пред ним детских воспоминаний об Италии, – но, ведь слушая песнь Миньоны, он глубоко переживает ее страдания и тоску, он готов схватить друга за руку и сказать:
Dahin, dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn[80]{31}.
Действительность не дает никакого удовлетворения его повышенному чувству, и он отворачивается от нее, чтобы всецело погрузиться в искусство или задушевную беседу с другом: здесь полный простор мечтам о такой жизни, где все – красота и упоение. «Приходи ко мне – пофантазируем»{32}, такие записочки он пишет Неверову. Оттого же он любит театр: «Излить свои чувства некому – там, в храме искусства, как-то вольнее душе… Театр и музыка располагают душу мечтать об искусстве, о его совершенстве, о прелести изящного, делать планы эфемерные, скоропреходящие… но тем не менее занимательные»{33}.
Так это напряжение, бесформенное чувство, не находя себе объекта в жизни, питается мечтами. Станкевич сам хорошо знает, что «прекрасное» его жизни – не от мира сего. И то, что он это знает, есть, наряду с избытком бесформенного чувства, его вторая отличительная черта. Он сильно чувствует – и тонко анализирует себя в самый момент волнения; в нем столько же рефлексии, сколько непосредственности. В результате получается такого рода двойственность: он живет мечтами, но в то же время смотрит на них со стороны. Он знает, что они призрачны, но он любит их, ему сладко с ними, и он играет ими, как дитя игрушками, и не хочет с ними расстаться, потому что вне их – скучная проза жизни. 1 января 1834 года, перед тем как ехать на бал в Благородном собрании, он в разговоре с одной знакомой жаловался на долгое молчание Неверова; та вздумала утешить его предположением, что Неверов, может быть, в дороге – едет в Москву. Предположение было нелепо, и Станкевич совершенно не верил ему, но оно было так соблазнительно, а Красов, склонный верить всему чудесному, так горячо доказывал его вероятность, что Станкевич был увлечен. Рассказывая об этом на следующий день в письме Неверову, он пишет: «Я видел, что это мечта, но она мне нравилась, очищала мне душу своей торжественностью»{34}, и ему стало грустно, когда тлетворный воздух бала спугнул его мечту. Вспоминая стих немецкого поэта: Nur der Irrtum ist das Leben[81] он проговаривается: «А может быть, то только и есть Wahrheit[82], что мы называем Irrthum{35}. Впрочем, если и нет, то наше мечтательное счастье лучше действительного уже и потому, что мы, вероятно, наслаждения в этом так называемом счастии не нашли бы». Любопытное признание и верное пророчество: оно не замедлит оправдаться на самом Станкевиче.