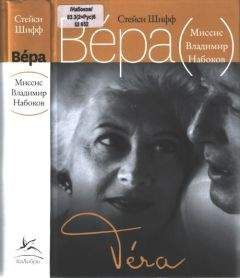Набоков утверждал, что никогда не рассматривал писательство как источник дохода; в той атмосфере, в какой начиналось его творчество, это была не более чем уступка гения реальному положению вещей. Более того, Набоковы оказались в культурном тупике. Наиболее европеизированные русские остро ощущали свою русскость в Германии; в то же время советскими они себя никак не ощущали. В спокойные минуты Набоков радовался этому. Он утверждал, что абстрагируется от жалкой суеты эмигрантского общества, получая удовольствие от своего «почти идиллического затворничества». По его словам, жизнь его отличалась неудобствами, одиночеством, а также «тихой внутренней радостью». Позднее он обосновывал некоторое свое восхищение Эмили Дикинсон тем, что, на его взгляд, поэтесса могла творить, находясь в двойной изоляции: от людей и от идей своего времени. Вера ни словом не обмолвилась насчет неудобств, одиночества или радости. Но она гордилась тем, что талант ее мужа развивался в условиях, близких к вакууму. И весьма ценила тех, кто был способен это понять.
Как писатель Набоков был настолько велик и многообразен, что почти не оставлял места в литературе для новых соискателей. Он неустанно указывал читателю, как его следует понимать; как личность, исповедовавшая верховенство индивидуальности, он великодушно (хотя порой и не слишком) позволял себе выступать диктатором в вводных частях своих произведений. Он насаждал себя повсюду. Мог даже внедриться в примечания («Бледный огонь»); вставить свою собственную рецензию (так и не опубликованная последняя часть книги «Память, говори»); привести надуманную пародию на самого себя («Ада»); добавить надуманное предисловие («Лолита»); отвечать на редакторские поправки в послесловии («Николай Гоголь»); выдумать сбивающее с толку генеалогическое древо (снова «Ада»); даже удалить благонамеренного редактора, собравшегося предпослать роману список ранее опубликованных произведений автора («Смотри на арлекинов!»). Не было такого текста, который не позволил бы Набокову пуститься в свободное плавание. Определенно лишь очень смелый читатель рискнул бы сойтись с автором на его родной почве. Вот тут-то и пригодилась с лихвой Вере ее личная отвага, ее гордое чувство интеллектуальной независимости. «Те, кого я зову к себе на пир, должны обладать крепким, как винный бурдюк, желудком и не просить стакан „Божоле“, если я подношу им бочку „Шато Латур д’Ивуар“», — похвалялся Набоков в зрелые годы. Однако в молодости он не был столь самоуверен в отношении своих способностей — он был более чувствителен как к хвале, так и к критике, что позже предпочел позабыть, — хотя уже осознавал, что ищет для себя смелого читателя. Набоков писал о Клэр: «Она обладала воображением, этим особым мускулом души, — воображением необычным, почти мужским». Он явно опасался, что Вере будет трудно переварить одну особую частицу его творчества — собрание эротических стихов, к немногим из которых она имела отношение. Но Вера привнесла на литературный фронт стальные нервы, которые проявились у нее в поездке на поезде по Украине.
Ее бесстрашие скоро сделалось легендой среди русских эмигрантов, что значительно подкреплялось и слухом, будто в Берлине она носила при себе пистолет. Скорее всего, это был браунинг-1900. Для того времени ношение оружия не являлось чем-то необычным — в период гиперинфляции в городе постреливали и шарили по карманам, — но пистолет Вера приобрела раньше, причем с совершенно конкретной целью [39]. «Неужели вы и впрямь учились стрелять, чтобы убить Троцкого?» — много позже спрашивал Веру кто-то из друзей. «Ну, в общем, боюсь, что так!» — призналась с улыбкой миссис Набоков, которая в ту давнюю пору еще ею не была. Она с гордостью говорила, что была первоклассным стрелком; утверждала, что била в цель так же метко, как и ее тренер, чемпион Берлина. Некоторым репортерам Вера признавалась, что в начале 1920-х годов была втянута в некий заговор, который по одним слухам имел целью убийство Троцкого, по другим — советского посла. Возможно, Веру вдохновлял пример — во всяком случае, нисколько не пугал — самоубийственного поступка Фанни Каплан, бесстрашной молодой русской еврейки, выстрелившей трижды из своего браунинга в 1918 году в надежно охраняемого Ленина и казненной за попытку его уничтожить. Можно не сомневаться, что Вера Слоним питала похожие надежды, и это подтверждается в стихотворении, написанном Набоковым через несколько месяцев после знакомства с ней: «Я знаю холодно и мудро,/ что в сумке лаковой твоей,/ — в соседстве зеркальца и пудры/ спит черный камень: семь смертей»#[40]. Далее Набоков представляет себе, как она, застегивая пальто, тихонько поджидает в подъезде свою жертву. Поэтическая идея не в том, что убийца подвергает себя смертельной опасности, но в том, что это грозное дело побуждает ее позабыть поэта и «все песни праздные мои»#.
Но особо тревожиться было незачем. В последующие четыре года о Верином безрассудстве писалось совсем иное. Один из авторитетов старшего поколения эмиграции, Юлий Айхенвальд, рано отметил талант Набокова; он рекомендовал юного Сирина Нине Берберовой и Владиславу Ходасевичу. Мягкий, всеми уважаемый человек, Айхенвальд столь же рано отметил и героизм набоковской половины. На заре брака Набокова Айхенвальд написал стихотворение «Вера»: «Хрупкая, нежная, ценная, /точно фарфор./ Но в силе воле ей не отказать, / И суровы ее суждения против основ». Под «недвижной плащаницей» поэт чувствует движенье жертвенного порыва. Но та, о которой он пишет, не походит на тех, кто замышляет убийство или идет на безрассудный подвиг, подобно Мартыну в «Подвиге», — исполняя миссию, о которой, по словам Набокова, он сам мечтал в годы, когда название «Романтический век» казалось ему подходящим для этого романа. Подобный акт героизма одновременно граничит с самосожжением. Айхенвальд считает Веру бесстрашным проводником Набокова по «поэтической тропе». Она во всех отношениях его сподвижник. Жена другого эмигранта сформулировала это иначе: «Каждый в русской среде понимал, кто и что имеется в виду, когда произносится „Верочка“. За этим именем скрывался боксер, вступавший в схватку и четко бьющий в цель».
Верина собранность весьма пригодилась ей в 1928 году, когда муж трудился над вторым своим романом. В конце 1927 года отец Веры занемог, как он сам полагал пару месяцев спустя, малярией. Владимир весной находился «в полном цвете своих литературных сил»#, выдавая страницу за страницей. Вера подкрепляла его силы особым коктейлем, приготовляемым из смеси яиц, какао, апельсинового сока и красного вина, но мало чем могла помочь Евсею Слониму, чье здоровье продолжало ухудшаться. Углубившись на восемь глав в роман «Король, дама, валет», Набоков ворчал, что «машинка пишущая не работает без Веры»#, сбивавшейся с ног в заботах об отце. Шестидесятитрехлетнего Слонима поместили в санаторий, где Вере, одной из всех дочерей, пришлось ухаживать за ним. Почти все дни она проводила у постели отца. Здоровье больного не улучшалось, и днем 28 июня 1928 года Слоним скончался от сепсиса, последовавшего в результате бронхопневмонии. Вера, почему-то обозначенная в свидетельстве о смерти как его жена, организовывала похороны. (Соня жила и работала в Париже, Лена служила в Берлине техническим переводчиком на сталелитейном предприятии, однако все заботы легли на Веру.) Через два дня в «Руле» был напечатан некролог, который — при всех преувеличениях, свойственных русским некрологам, — соответствует свидетельствам многих очевидцев и описывает Слонима как человека в высшей степени достойного, отличавшегося «готовностью забывать о собственных нуждах ради нужд других людей, отказывая себе во всем, чтобы сделать других счастливыми». Набоков был поглощен окончательным отделыванием романа «Король, дама, валет», с восхитительной бесстрастностью обрисовывавшего злополучный любовный треугольник; Веру в ее горе отвлекли заботы о матери, которая, проболев большую часть года, подолгу находилась в разных санаториях. 17 августа, за неделю до своего пятидесятишестилетия и вскоре после короткого пребывания в больнице, Слава Слоним также скончалась — от сердечного приступа. Через пять дней ее похоронили на еврейском кладбище, рядом с мужем, с которым они жили врозь. Расходы на похороны взяла на себя Анна Фейгина.