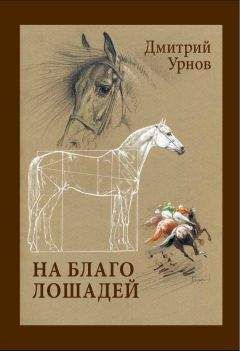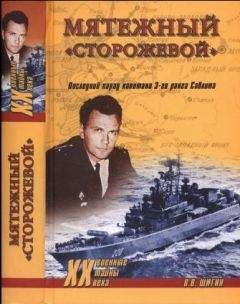Опять подошла маховая, контрольная работа. В шесть утра, как обычно, я дал овса. Беда еще была в том, что овес оказался у нас пополам с пшеницей, тяжелый для лошадей корм. Мы давали осторожно, но все-таки кормить-то надо при такой нагрузке! Боюсь, что тогда я слишком щедро насыпал Бравому. Но корм после резвой был легкий: не овес – каша из отрубей. А что если кто-то из конюшни соперников раньше времени дал ему напиться? Во всяком случае, когда уже после работы и после обеда, на который мы ходили с Александром Федоровичем по очереди (один всегда оставался в конюшне), я вернулся, во дворе стояло плотное кольцо людей. В середине – Бравый: как гибнущий гигант, он беспомощно оседал на задние ноги. Облегчал себе перед: передними ногами от боли ступить не мог.
Самый ужас – ревматическое воспаление копыт, что называется «опой». Лошадиное сердце – сильный мотор – отличается одной слабостью: оно беззащитно, если не вовремя или чрезмерно дать воды. По устройству своему сердце лошади не успевает «перекачивать» жидкость, и вода устремляется в конечности, книзу. Набухают кровеносные сосуды «венчики» – у самых копыт. Оттого Бравый и не мог сделать шагу, потому он и старался высвободить от тяжести собственного могучего тела передние ноги.
Подобно Крепышу, Бравый отличался роковой неудачливостью. Не то что вдруг не повезло, а именно в тот момент, когда решается судьба, его постигает неудача. Потом или до этого он может нечаянно творить чудеса, но в роковой момент, в минуту судьбы, когда в одну точку сведено все: успех, слава, принцип, история – он проигрывает. Так, Крепыш имел множество почетных призов, установил на всех дистанциях рекорды. Некоторые из них держались более двадцати пяти лет. А его время на три версты (3200 м) по ледяной дорожке зимой оставалось непобитым полвека. Только Бравый и улучшил его. Но Дерби, приз призов, Крепыш проиграл Слабости, Интернациональный приз – американскому рысаку Дженераль Эйчу. Потом он мог, шутя и играючи, объехать тех же соперников, но в роковой момент ему не везло.
Бравый и в этом отношении был похож на своего знаменитого предка.
Помню как упустил он Дерби.
Дерби во всякой стране, где есть конный спорт – это все. Были наездники необычайно прославленные, но, если в списке их блестящих побед за всю призовую карьеру не значилось Дерби, то они оставляли свое поприще с удрученным сердцем. Само название и значение приза идет, как вообще многое в конной терминологии, из Англии, где в конце XVIII века лорд Дерби учредил приз своего имени для трехлетних скакунов. С присущим им консерватизмом англичане из года в год строго поддерживали все те же условия розыгрыша Дерби – дистанцию, грунт, время года. Сто лет назад и сейчас лошади скачут на Дерби в Эпсоме при неизменных условиях, поэтому Эпсомское Дерби служит абсолютным мерилом достоинств чистокровных скакунов от века к веку. Приз стал классическим и приобрел таким образом первостепенное значение. И в других странах основной приз сезона называют условно Дерби. Даже если такому большому призу дается свое, национальное название, например в Америке – Гамблетониан или у нас – Большой Всесоюзный, то дополнительно все равно указывается, что по классу это Дерби. В тот год Бравый считался фаворитом, ведь Зимний Большой приз был за ним. Все ждали его.
– Давно, давно на бегах не появлялось такой лошадки, – говорил один старый наездник, для которого былое бегов – его жизнь.
На работе Бравый уже показывал тогда резвость, близкую к рекордной. А утром в день приза полил дождь. В Москве грунт другой, чем в Одессе, ехать можно. Некоторые лошади по грязи, потому что мягче, бегут даже лучше. Был случай, старик Алпатыч однажды ходил накануне приза под дождем по ипподрому и не хуже седого Лира просил стихию: «Лей! Лей!» Дождь послушался, и на другой день Алпатыч мчался на своем Контакте, как паровоз, и выиграл вне конкуренции.
Не то Бравый.
Массивная лошадь, он полз по сырой дорожке. Чеканный ход его нарушился. Копыто вязло и скользило. Небольшой Подвиг легко побил его. Все растерялись. Чувствовали – несправедливо! А что поделаешь?
И вот опять Бравый бессилен перед несчастьем, обрушившимся на него. Щельцын с какой-то одеревенелой выдержкой осматривал его. Я знал за Александром Федоровичем это качество: при бедах, которых в жизни его было довольно, он изнутри напружинивался и так непроницаемо застывал…
* * *
Лучшие свои годы, время расцвета, Щельцын провел в ссылке. Классный молодой мастер оказался далеко от столичного ипподрома, где одержал крупнейшие победы, в том числе выиграл советское Дерби, Большой Всесоюзный Приз. Что же ему инкриминировали? Контрреволюцию – таков был приговор, который задним числом острословы-смельчаки уточняли: «среди лошадей». На самом деле, какова бы ни была официальная мотивировка ареста и высылки, то был результат закулисного соперничества среди наездников. Иные из них, кому не везло в призах, брались уже не за вожжи, а за перо, чтобы строчить доносы – обычнейшая практика тех времен, какую область нашей жизни ни возьми. Мне выпало знать и тех, на кого клепали, и тех, кто клепал. Доброхоты строчили, поставляя сырье для сыскной промышленности, у которой, как у всякой отрасли планового хозяйства, имелись свои нормативы выработки.
«Сознавайся, чем же ты лошадь зарубил – топором?» – так во время допроса еще одного мастера, тоже ставшего жертвой политического навета, был истолкован конюшенный термин «зарубка» или «засечка». Кто донос писал, тот, разумеется, знал: это ссадина на ноге, лошади наносят такие незначительные увечья то и дело самим себе ударом копыта, однако, автор доноса, вероятно, не счел нужным пояснить, что значит «зарубил» на ипподромном языке, а кто допрашивал, тот, и не думая до сути доискиваться, увидел в доносе что и требовалось усмотреть – порчу социалистической собственности, иначе говоря, вредительство. Этого наездника все же отпустили, но не потому, что ему удалось устранить семантическое (смысловое) недоразумение, нет, ценой поклепа на собрата-конника: а тот, еще одна жертва, наложил на себя руки и в предсмертном письме завещал, чтобы уцелевший, но ставший клеветником на похороны его не приходил.
Щельцын рассказывал: незадолго до ареста один знакомый, любитель бегов, взял у него почитать редкую книгу «Мыслящие лошади». Взять взял, а не вернул – не успел, его самого арестовали. Это был автор «Конармии» Исаак Бабель, свой человек в ЧК, ОГПУ и НКВД, именно эти связи и довели его до трагического конца. Удивительным образом та же книжка, судя по некоторым признакам, все тот же самый экземпляр, попалась мне у букиниста, и со временем я отдал ее книголюбу-коллекционеру, поклоннику Бабеля, теперь эта библиографическая редкость хранится за океаном в библиотеке Института революций и войн.