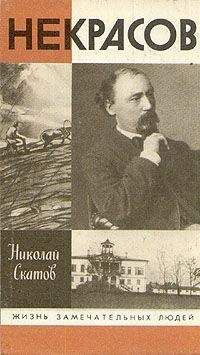Между тем у Некрасова работа этого рода, вроде бы столь достойная и успешная, идет все более вяло и — незаконченная — бросается. Дело не просто, как часто пишут, в цензуре. Поэт, видимо, ощутил, что занимается не своим делом. И слава Богу, что ощутил. Иначе русская литература так и осталась бы с еще одним хорошим прозаиком «натуральной» школы: много пониже Достоевского той поры, много повыше Буткова и никак не хуже Григоровича. Но — без поэта, которого некоторые (Чернышевский) ставили выше Пушкина, а некоторые (Достоевский, правда, подчиняясь моменту, — речь на похоронах Некрасова) не ниже Пушкина.
Некрасов сказал однажды: «Дело прозы — анализ, дело поэзии синтезис». Мысль, восходящая к Гегелю и, вероятно, усвоенная Некрасовым от кого-то из друзей, но понятая и прочувствованная им тем более глубоко, что он оказался и критиком, и прозаиком, и поэтом. Расставшись с «Мечтами и звуками», он расстался со старым поэтическим «синтезисом».
Будучи поэтом, он не нашел и не мог найти полного успеха в непоэтическом деле, к которому и побуждал Белинский, — в прозе, но Белинский же очень помог в успешном поиске дела поэзии — нового «синтезиса», помог невольно, не видя в Некрасове поэта и ни к какой поэтической деятельности не побуждая. И все же он возвращал Некрасова к поэзии, хотя и не думал об этом. Возвращал всеми своими высокими и вселяющими веру в высокое поучениями, а главное — всем своим обликом и образом. Тем более в пору, когда Некрасов, молодой человек и литератор, по собственному признанию, впадал даже в цинизм — литературный, да, добавим, и житейский тоже, и от которого не всегда удерживался позднее: «Что бы ему пожить дольше. Я был бы не тем человеком, каким теперь».
Потому-то Некрасов и сказал, что встреча с Белинским была для него спасением. Без такого критика-«реалиста» и человека-идеалиста, как Белинский, Некрасов не стал бы таким поэтом-«романтиком», каким он стал во второй половине 40-х годов. И даже человеком-«материалистом» он, наверное, стал бы другим, хотя, конечно, его взгляд на Белинского был и остался все же взглядом «материалиста» на «идеалиста»:
Наивная и страстная душа,
в ком помыслы высокие кипели...
«Страстная душа» Некрасова много «высокого» приняла от «страстной души» Белинского. И в то же время даже в этих стихах — какой трезвый и холодный взгляд — «наивная»; чего он сам был лишен, так это прекрасной наивности Белинского; и поэтической — в стихах тоже, — а не только человеческой в жизни. Для Некрасова Белинский возвращал синтез в стихи, возвращая для него такой синтез в жизнь. Так что новый поэтический синтез был найден под прямым воздействием Белинского, хотя в то же время безотносительно к Белинскому и даже вопреки Белинскому.
Переломным оказался 1845 год. Он еще начинается с решительного и иронического отрицания стишков:
Стишки! Стишки! Давно ль и я был гений?
Мечтал... не спал... пописывал стишки?
О вы, источник стольких наслаждений,
Мои литературные грешки!
Как дельно, как благоразумно-мило
На вас я годы лучшие убил!
В душе моей не много силы было,
А я и ту бесплодно расточил!
Увы!.. стихов слагатели младые,
С кем я делил и труд мой, и досуг,
Вы, люди милые, поэты преплохие,
Вам изменил ваш недостойный друг!..
А далее иронически и про «избранников небес», и про «час блаженно-роковой», и про «не понимающих толпы пророков». Стишки были напечатаны тогда же с сокращенной и юмористически звучащей подписью «Ник-Нек».
И в том же, 1845 году, вероятно, в конце года, вдруг появляются стихи традиционные и, видимо, совершенно неожиданные для поэта, который недавно смеялся над тем, как он «мечтал»:
Пускай мечтатели осмеяны давно,
Пускай в них многое действительно смешно,
Но все же я скажу, что мне в часы разлуки
Отраднее всего, среди душевной муки,
Воспоминать о ней: усилием мечты
Из мрака вызывать знакомые черты,
В минуты горького раздумья и печали
Бродить по тем местам, где вместе мы гуляли...
А далее — и без всякой иронии — и про мечту, и про сад, и про темную аллею, и про «долгий поцелуй». Некрасов даже не напечатал эти «стишки» тогда, а только через шесть лет и то как «Стихотворение без подписи».
В сорок же пятом году, пусть и возникнув из непосредственных жизненных впечатлений — скорее всего начала любви к Панаевой, — оно должно было поразить и его самого необычностью!
Когда-то один из знатоков русской поэзии сказал об этих некрасовских стихах: «Классический александриец в традиционном пушкинском стиле». Конечно, этот пушкинский александриец Некрасова не Бог весть какое поэтическое явление. Важно иное: «пушкинские» стихи можно было спокойно написать, поскольку уже создавались собственно некрасовские.
В том же 1845 году совершилось действительно поэтическое открытие. Явился поэт. Не в ряду прочего писавший стихи литератор, а поэт, до того у нас не бывший и невиданный. Вот это-то Белинский с поразительным своим чутьем понял сразу и отреагировал с тем большей силой, чем большей неожиданностью для него самого это было. А это уже было не «Зарождение слов и мыслей» и «задатки отрицания», которыми он мог восхищаться в некрасовской «Родине». Это было иное и — главное.
По воспоминаниям И. И. Панаева, когда Некрасов прочитал свое стихотворение, у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?» Некрасов не знал. Он ни тогда, ни потом — никогда не был чужд, по собственным позднейшим стихам, «сомнения в себе, сей пытки творческого духа». Пушкин, наверное, был чуть ли не единственным у нас, чьи «пытки творческого духа» никогда не включали «сомнения в себе». Не то у Некрасова, у Фета... Один из мемуаристов недаром написал, что Белинский раскрывал Некрасову его самого. А самим собой в первый раз он явился в стихотворении «В дороге».
В стихотворении рассказывается о трагической истории крестьянской девушки, воспитанной в барской семье и по прихоти барина отданной в мужицкую семью, на горе своему мужу-крестьянину и на собственную погибель.
Стихотворение поражает правдой самого факта, и подчас кажется, что сила стихотворения и суть поэтического открытия Некрасова лишь в сообщении этого факта, в то время как дело не только в этом. Понять, что же здесь произошло, дают два великих предшественника Некрасова, два поэта-современника: оба кончили как раз тогда, когда Некрасов только начал: Лермонтова убили в 1841 году, в 1842 году умер Кольцов.