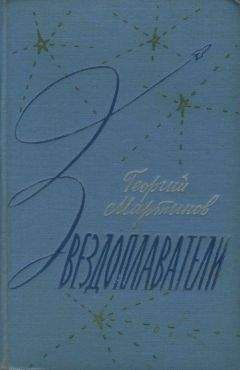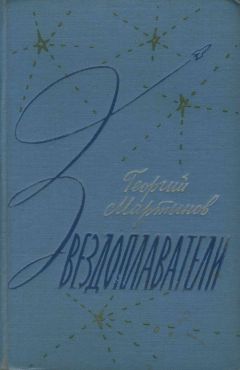Следователь ограничился самой невинной статьей 58.10: «антисоветская агитация». О.М. не оценил подарка и воспринял это несколько иначе:
Следствие по поводу моих стихотворений считаю правильным. Поскольку других обвинений в какой бы то ни было формулировке мне не было предъявлено, считаю следствие, не зная за собой другой вины, правильным.
Для того чтобы оценить, сколь мягкой и великодушной была даже чердынская версия наказания О.М., достаточно ознакомиться с судьбой другого ссыльного – Николая Клюева (его «чекистское обслуживание», напомним, осуществлял всё тот же Шиваров). Оба поэта пострадали за стихи[200], оба получили «пятьдесят восьмую, десять», оба административно высланные, оба отправились в ссылку почти синхронно (в июне 1934 года) – только вот наказания у них неимоверно разнятся: сорокатрехлетний О.М. получил три года в прикамском райцентре, а пятидесятилетний Клюев – пять лет в нарымском.
В своем первом письме, отправленном из Колпашева 12 июня 1934 года, Клюев писал своему и мандельштамовскому общему другу – Сергею Клычкову:
Дорогой мой брат и поэт, ради моей судьбы как художника и чудовищного горя, пучины несчастия, в которую я повержен, выслушай меня без борьбы самолюбия. Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. ‹…› Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чего раньше не было. Поселок Колпашев – это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьешь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час – о несчастном – бездомном старике-поэте, лицезрение которого заставляет содрогнуться даже приученных к адским картинам человеческого горя спец-переселенцев. Скажу одно: «Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!» Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер – это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что всё мое выкрали в общей камере шáлманы. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?! Куда идти? Что делать? ‹…› Помогите! Помогите! Услышьте хоть раз в жизни живыми ушами кровавый крик о помощи, отложив на полчаса самолюбование и борьбу самолюбий! Это не сделает вас безобразными, а напротив, украсит всеми зорями небесными! ‹…›
Прошу и о посылке – чаю, сахару, крупы, компоту от цинги, белых сухарей, пока у меня рвота от 4-х-месячных хлеба с водой! Умоляю об этом. Посылка может весить до 15-ти кило по новым почтовым правилам. Летним сообщением идет три недели. Прости меня за беспокойство, но это голос глубочайшего человеческого горя и отчаяния. ‹…› Ес‹ть› ли какие надежды на смягчение моей судьбы, хотя бы переводом в самые глухие места Вятской губ‹ернии›, как, напр‹имер› Уржум или Кукарка, отстоящие от железной дороги в полтысячи верстах, но где можно достать пропитание. Поговори об – этом Кузнецкий мост, 24 – с Пешковой, а также о помощи мне вообще. Постарайся узнать что-либо у Алексея Максимыча. ‹…› Не ищу славы человеческой, а одного – лишь прощения ото всех, кому я согрубил или был неверен. Прощайте, простите! Ближние и дальние. Мерзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело мое, должен умирить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить. Прости! Целую тебя горячо в сердце твое. Поторопись сделать добро – похлопочи и напиши или телеграфируй мне: Колпашев, до востребования. Н.А. Клюеву.[201]
География, опосредованная через климатические зоны и пояса, определяла и жизнь, и смерть. Из нарымского Колпашева вятские Уржум или Кукарка представлялись раем. И, в этом географическом контексте, точно таким же раем была и пермская Чердынь, хотя сам О.М. – без нарымского «опыта» – мечтал из нее уехать точно так же, как Клюев из Колпашева. Клюев тогда в Колпашеве остался (лишь позднее, в октябре 1934 года, его переведут в Томск), а О.М. бегство из прикамского рая удалось и куда более раннее: новым постановлением Особого совещания уже в июне он был переведен в Воронеж.
Воронеж?.. 26 ноября 1934 года, обращаясь уже не к Клычкову, а к его жене Варваре Николаевне Горбачевой, Клюев умоляет ее разыскать у него в «немецкой Библии», весом в пуд, с медными углами и в кожаном переплете, заложенное его инвалидное свидетельство – документ, могущий дать ему право если не освободиться, то хотя бы высвободиться из нарымских объятий: «Я могу очутиться в Воронеже или в Казани, а это было бы для меня истинным счастьем!»[202]
25 октября 1935 года Клюев вновь помянул Воронеж: «Как поживает Осип Эмильевич? Я слышал, что будто он в Воронеже?»[203] Получив от В.Н. Горбачевой подтверждение или даже пояснение, он светло вспомнит О.М. и в своем письме на Нащокинский 23 февраля 1936 года: «Очень бы хотелось написать Осипу Эмильевичу, но его адреса я тоже не знаю»[204].
Клюев, кстати, был не единственным ссыльным поэтом, интересовавшимся из своего далёка Осипом Эмильевичем. Вторым был Владимир Алексеевич Пяст, административно-высланный в 1930 году на три года в Северо-Западный край – в Архангельск, Вологду, Сокол и Кадников, а затем, в январе 1933 еще на три года «прикрепленный» к Одессе[205]. В это время, разумеется, не Пяст Мандельштамом, а Мандельштам «интересовался» Пястом – собирал ему посылки, слал телеграммы[206].
В начале 1933 года Пяста перевели в Одессу, и по дороге из Вологодской области на юг он, возможно, останавливался у Мандельштамов на Тверском бульваре. Сочтя сие место архинадежным, а хозяев архисолидными, он оставил им на хранение свой архив. В конце 1933 или в начале 1934 года Пяст, по всей видимости, приезжал из Одессы в Москву на несколько дней и останавливался у них же – на новой квартире[207]. В июне он узнал об аресте О.М. – скорее всего, от своей второй жены, актрисы Н.С. Омельянович, которой Н.М. еще до ссылки в Чердынь отдала архив Пяста.