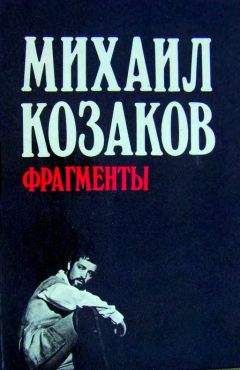Был еще спектакль «Дальняя дорога» по пьесе Арбузова. Когда я ушел из театра, Охлопков поставил «Океан» Штейна, «Иркутскую историю» того же Арбузова, за Елену Ивановну — «Весенние скрипки» все того же Штейна.
Погодин, Леонов, Штейн, Арбузов. Штейн, Погодин, Арбузов… Арбузов, Штейн, Погодин… Фамилий Розова, Володина нет. Охлопков не брался за представителей «новой волны», и это, в общем, было закономерно для него, как и отсутствие интереса к неореалисту Эдуардо де Филиппо или представителям английской драматургии, «злым молодым», например Осборну, столь популярному в мире в те годы. Неореализм не его стихия, не его эстетика, углубленное отношение к индивидууму — вне интересов Охлопкова. (Эпический размах!) Думал заняться Брехтом, читал труппе «Доброго человека из Сезуана». Читал «Визит старой дамы» Дюрренматта. Но у самого руки до Брехта так и не дошли. Брехтом в театре Маяковского будет заниматься В. Ф. Дудин параллельно с драматургией Софронова, две пьесы которого, «Человек в отставке» и еще одна (названия не помню), в его постановке шли в эти годы на сцене театра Маяковского.
Сам Николай Павлович Софронова не ставил, мараться не хотел. Если говорить о гражданских его убеждениях, их можно выразить прибауткой: «И на елку влезть и штаны не порвать», — то, к чему придут через несколько лет многие из следующего поколения режиссеров и писателей, называвшие себя детьми XX съезда.
Вторым после Охлопкова лицом в театре Маяковского был В. Ф. Дудин, который, когда Николай Павлович заболел, стал и.о. главного режиссера.
Неглупый, хитрый, осторожный Дудин ко мне относился хорошо. Учил жить. Говорил:
— У тебя все складывается отлично, лучше не бывает. Чего ты ерепенишься? Веди себя в театре тише воды ниже травы, и все будет о’кей. Роли тебе дают, тарификацию подбросили, вступи в партию — получишь звание… Софроновым он, видишь, недоволен! Высказываешься, трепешься при всех… А люди, знаешь, какие? Тебе завидуют. Гамлета играешь, статьи о тебе пишут, киноартист… Дурак ты!
— Владимир Федорович, вы что, сами не понимаете, что пьеса Софронова — это подлянка и вообще дерьмо? Ну как мне играть этого Медного? Художник-абстракционист, — значит, подонок и пьяница… Ну как я в глаза людям буду смотреть?
— Нет, ты все-таки мудак! Ханов, Лукьянов, Пугачева играют, а он не может! Вот когда тебя в прессе будут хвалить, как в Гамлете не хвалили, тогда поймешь…
Дудин был достаточно умен, чтобы не понимать в душе уровень софроновской пьесы, но жил по принципу, по которому жили очень многие. Когда Р. Н. Симонова спросили:
— Рубен Николаевич, ну как это можно? У вас замечательный спектакль «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо, и вы тут же ставите «Стряпуху» Софронова…
Он с присушим ему юмором ответил:
— Я руковожу театром элегантно!
«Элегантно» пытался существовать и Дудин. Правда, с талантом у него дело обстояло много хуже, чем у Р. Н. Симонова, поэтому на их общем пути он достиг незначительного эффекта, но это не помешало ему быть народным артистом РСФСР и каким-то чудом ставить спектакли в Финляндии, что по тем временам было привилегией немногих режиссеров. Художественных идей у него, на мой взгляд, просто не было. Поставил «Вишневый сад» Чехова, ниже всякой критики, но вполне традиционно, а потом «Человека в отставке», тоже скверно, однако уже а-ля Охлопков, — флюгеря по моде, продиктованной шефом. Там ходили по кругу на роликах стены-ширмы, что было ни к селу ни к городу в кондовой пьесе Софронова.
Как всегда в софроновских пьесах, конфликт был сдобрен юмором, этаким здоровым, незатейливым, исконно-посконным, сделанным «старым казачьим способом». На сцене этот юмор воспроизводила пара — К. М. Пугачева и П. М. Аржанов, — игравшая в лучших традициях театра оперетты… Что говорить, все мы были хороши!
Зато на этом примере, когда я играл против своих убеждений, против самого себя, я убедился, как щедро за это платят нашему брату. Никогда, ни про одну свою роль я не читал такого количества хвалебных рецензий. Нам вручали дипломы и грамоты театральной весны… Поощрительная денежная премия за исполнение роли… В «Огоньке» появилась заметка про меня, украшенная моим портретом…
А банкет, который давал автор, был щедрым — ешь от пуза. Да не один банкет, а два! Первый в «Арагви», куда был приглашен и пришел Охлопков, а второй на гастролях в Киеве летом пятьдесят восьмого года. Софронов, хлебосольный, радушный хозяин, провозглашал тосты, шутил, читал стихи, пел под гитару — миляга парень, свой в доску, душка, да и только!
Будни.
Позже Дудин взялся еще за одну пьесу всемогущего редактора «Огонька», и я опять попал в список распределенных на роли. Но к этому времени уже был сыт по горло пребыванием в театре Маяковского и принял решение перейти в «Современник»…
Была еще одна работа Дудина с моим участием, о которой я хочу упомянуть лишь потому, что пьесу написал покойный Александр Аркадьевич Галич, с которым я тогда и познакомился. Она называлась «Походный марш». Честная, усредненная пьеса раннего Галича, стоявшая в ряду таких его вещей, как «Вас вызывает Таймыр», «Пароход зовут "Орленок"» и сочиненный коллективно еще до войны во времена арбузовской студии «Город на заре».
Структура «Походного марша» была такова: действие заставок, пролога и эпилога, написанных Галичем в стихах, происходило в немецком концлагере. Война подходила к концу, и герои пьесы (их играли Толмазов и я) пытались заглянуть в будущее и представить себя в мирное послевоенное время — эта часть пьесы была написана уже прозой. Мы попадали, кажется, на стройку. Завязывался любовный треугольник: Толмазов, Карпова и я. Он как-то разрешался — более или менее благополучно, а потом опять стихи, и лагерь, и смерть…
В общем, повторяю, нормальный усредненный Галич, который мог бы вполне благополучно и безбедно существовать и дальше, пиши он подобные пьесы и сценарии. А песен он тогда своих не сочинял. То есть сочинял и пел с удовольствием, сидя за роялем в репетиционном зале театра Маяковского после репетиций «Походного марша», но еще совсем не те песни, которые принесли ему славу и перевернули его дальнейшую судьбу, оборвавшуюся так глупо и страшно. И лежит он где-то на чужом кладбище, хотя не один ли черт, где лежать? Где жить, куда важнее…
Любил Галич в пятидесятые выпить, приударить за артистками, сесть за рояль и спеть, раскатывая букву «р», что-то из Хьюза в своем переводе: «Подари на прощанье мне билет на поезд куда-нибудь. А мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь, а мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился путь…»