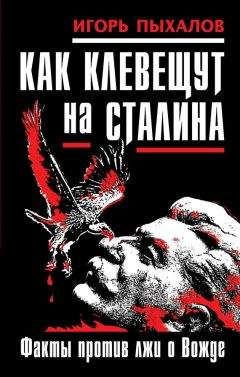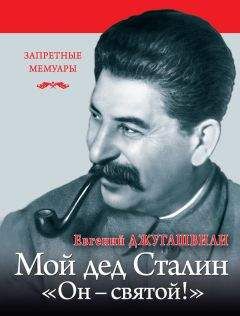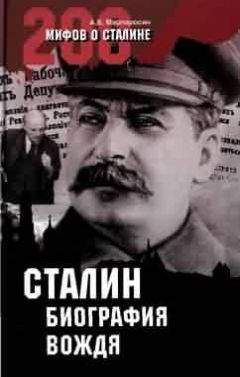— Что скажет артистка Орлова по этому поводу? — спросил Сталин, когда я дочитала письмо до конца.
— Думаю, что у некоторых товарищей в Саратове от напряженной работы немного помутился разум! — сердито сказала я. — Доводилось мне слышать, что все актеры бездельники, но никто еще не называл нас «предателями интересов социализма». Если бы я могла ответить на это письмо, то…
— А почему бы и нет? — Сталин хитро прищурился. — Почему артистка Орлова не может ответить на это письмо?
— Но оно же адресовано не мне… — растерялась я.
— Что с того? Разве я не могу поручить ответить на письмо, которое адресовано мне, более компетентному в этом вопросе товарищу? Так и надо будет написать: отвечаю вам по поручению товарища Сталина. И пусть он покажет это письмо в райкоме, пусть всем его показывает… Дезертирство! Правильно говорит народ: «Заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет». Никак не могут некоторые товарищи обходиться без перегибов.
Я переписывала это письмо раз пять, если не все семь. Все время казалось, что я выразила свои мысли не так, как надо — то слишком резко, то слишком заумно. Наконец письмо (длинное, на трех листах) было написано. Я начала с того, что у нас в стране любой труд почетен и важен, вкратце рассказала о том, какую пользу приносит народу искусство, объяснила, что актерский труд не менее сложен, чем труд рабочего, и что никакой речи о дезертирстве быть не может. В отдельном абзаце я посоветовала товарищам из Саратова употреблять слова «дезертирство» и «предательство» по их прямому назначению, потому что это очень значимые слова.
Сталину мой ответ очень понравился. Он сказал, что я нашла правильные слова и вообще все очень хорошо написала.
Товарищ Воронов (впоследствии, при знакомстве оказавшийся очень милым и крайне застенчивым молодым человеком) написал мне, что мое письмо произвело «настоящий взрыв» и что в этом году он приедет в Москву учиться на актера. Зимой того же года, после одного из концертов, он подошел ко мне с огромным букетом роз, представился и рассказал, что поступил учиться в институт им. Луначарского[56].
Больше мы не виделись. Черты его лица стерлись из моей памяти, осталось только общее впечатление, но фамилию я помню. Вдруг встретится в титрах или в театральной программке.
* * *
Дожив до определенного возраста, мы понимаем, что наша жизнь состоит из потерь. Мы теряем. Теряем любовь, теряем близких, теряем чувства, теряем способность радоваться, страдать, сопереживать… Если меня спросят «что такое возраст?», то я отвечу, что возраст — это равнодушие. Многое из того, что когда-то было важным, очень важным, невероятно важным, теряет свой смысл, утрачивает свое значение (некогда казавшееся не просто великим, но исключительным!), отходит на второй план. Но есть вечные ценности. Есть события, которые не меркнут. Есть то, что хочется вспоминать на протяжении всей жизни. Хочется, и я вспоминаю. Вспоминаю с удовольствием, с радостью, вспоминаю и подчас иногда не верю, что это было на самом деле. Было. Со мной. Со мной ли? С течением времени многое из прошлого кажется выдуманным, невероятным, сказочным. Без преувеличения сказочным. Вспоминаешь и удивляешься — разве со мной это было?
* * *
Наши встречи со Сталиным, по причинам, которые вряд ли нуждаются в объяснении, были тайными. Настолько тайными, насколько это возможно. Но слухи все равно пошли. Впрочем, не могу утверждать, имели ли они под собой какое-то основание или были в прямом смысле высосанными из пальца. Не думаю, что кто-то из посвященных в нашу тайну стал бы распускать язык, ведь то был ближний круг, самые доверенные, тщательно отобранные люди. Но почему бы не выдумать? «Ах, Орлову всего за одну картину сделали заслуженной артисткой?! Это неспроста! Не иначе как она…» И так далее. Вариантов может быть сколько угодно, смысл всегда один.
Никто из посторонних не мог ничего заметить или узнать. На людях мы вместе никогда не появлялись. Говоря «вместе», я имею в виду не какие-то мероприятия, на которых присутствовал Сталин и куда приглашали меня, а совсем другое.
Машина, приезжавшая за мной, никогда не забирала меня прямо от дома или от какого-то другого места, в котором я находилась, а ждала в некотором отдалении. Так захотела я. Меньше сплетен. Высаживали меня тоже поодаль. Машины приезжали разные, но никаких отличий, позволявших сделать какие-либо выводы, они не имели. Водители, а также люди, сидевшие рядом с ними на переднем сиденье (всегда кто-то там сидел), были одеты в обычные костюмы, а не в военную форму. Единственным отличием было лишь то, что ехали все машины очень быстро. Я очень боюсь быстрой езды. Это у меня с детства, с тех пор, как смирная с виду лошадь (мы ехали на извозчике) вдруг громко заржала и помчалась не разбирая дороги. Извозчику не сразу удалось с ней совладать, и страху мы с мамой и сестрой натерпелись предостаточно. Поэтому при быстрой езде я закрываю глаза и думаю о чем-то постороннем, отвлекаю себя.
По приезде меня встречал кто-то из охраны и проводил прямо к Сталину. Иногда мне приходилось ждать — полчаса, час, а то и больше. Во время ожидания мне непременно подавали чай с какой-нибудь снедью. Под рукой всегда были газеты или книги, так что мне было чем себя занять. Меня видело мало людей — те, кто привозил и отвозил, тот, кто встречал и провожал, и горничные. Привозившие и встречающие менялись довольно часто, а вот горничные были одни и те же. Одного из встречавших меня военных я много позже увидела во время концерта в клубе НКВД. Он сидел во втором ряду рядом с красивой брюнеткой в ярком цветастом платье. Сначала я, как и положено женщине, обратила внимание на платье брюнетки, а потом уже узнала ее спутника.
* * *
Близкое знакомство с Вождем никогда не использовалось мной для достижения каких-то личных, корыстных целей. Я никогда ни о чем не просила Его, что бы там ни утверждали злые языки. Это не в моих правилах, да и если бы я осмелилась, то скорее всего на том бы наше общение и закончилось. Сразу. Он не любил, когда к нему обращаются с личными просьбами. Все это знали, но тем не менее обращались, писали письма. Его это сильно раздражало. Он неоднократно с досадой говорил о том, как легко люди путают справедливость с личной выгодой.
На Всемирную выставку в Париж отправили несколько советских картин, среди которых оказался и «Цирк». Ни я, ни Г.В. не надеялись на какие-либо награды, поскольку считали (как, впрочем, и все остальные), что награжден будет ленфильмовский «Петр Первый» (тогда была снята только первая серия). Масштабная, серьезная, историческая картина, по общему мнению, должна была вызвать наибольший интерес. Принимался во внимание и тот фактор, что картина об одном из русских царей, снятая в Советской стране, привлечет внимание сама по себе. Нонсенс! Невероятно! Поразительно! Короче говоря, «Петру Первому» пророчили успех на выставке, но каково же было наше удивление (особенно мое), когда мы узнали, что первое место (гран-при) занял «Цирк»! Мы с Г.В. просто не могли в это поверить. Несерьезный же, в сущности, жанр, музыкальная комедия, и такое всемирное признание. Мы кричали «ура!» и смеялись, как дети. Вспоминаю сейчас через столько лет об этом, и радость теплом разливается по душе.