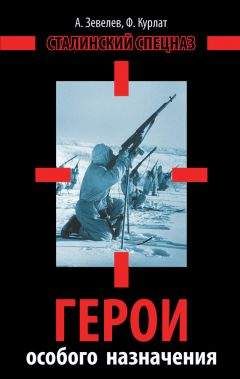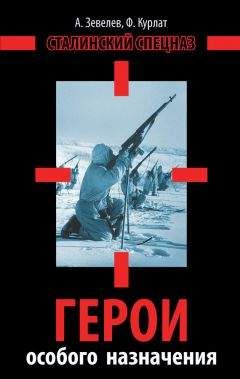Володин не заметил, как из темноты вынырнул тот самый санитар с тазом; таз был пустой, и он держал его под мышкой.
- Слышь, а? - Санитар локтем подтолкнул Володина и кивнул в сторону высот, где гремел бой. - Бьют людей, как мух. Нет нашему брату спасения, э-эх... перехватил таз поудобнее и скрылся в хирургической палатке.
Сколько в своей жизни хороших и умных фраз про-пустил Володин мимо ушей; не обратил внимания и на эту, но она все же зацепилась, застряла и легла своей эн-тысячной извилиной в мозгу; уже через минуту Володин повторил ее: "Бьют, как мух!" - прислушиваясь к странному звучанию; эта обыкновенная, простая фраза теперь показалась ему сложным философским изречением, и он старался постичь смысл; фраза как бы позволила ему из отдаления годов взглянуть на совершавшиеся события...
Он снял гимнастерку, белый халат надел прямо на рубашку, но все равно было жарко, пот струйками скатывался по спине к поясному ремню; широкие, узкие, бесконечной лентой текли из рук его бинты, обкручивая человеческие тела; давно уже не приходилось так напряженно работать, раненые все подходили, подходили, угрюмые, молчаливые, злые, и никто не задавал им вопроса: "Как там?" - всем было понятно, что там тяжело, очень тяжело, ад, пекло; фельдшер Худяков читал это в глазах подходивших оттуда, из пекла; он почти не разгибал спину и только приподнимал голову, чтобы выкрикнуть: "Следующий!" Он принимал легкораненых в той же палатке, где хирург рылся в животах, вылавливая, как налимов, осколки; "дзинь, дзинь" - падали осколки на дно оцинкованного таза. Эти звуки заставляли вздрагивать Худякова; чтобы успокоить нервы, он доставал из кармана флакон с разведенным спиртом, отворачивался и отпивал глоток; флакон уже был на две трети опустошен, когда его отобрали у фельдшера. Но папиросы никто не отберет, курить никто не запретит. Он вышел из палатки, белый, с засученными рукавами, с потеками и брызгами крови на халате, постучал папиросой о ноготь, продул мундштук и закурил, наслаждаясь мягкостью дыма. Он был весь поглощен своими думами; ни багряное небо, ни гул артиллерийской стрельбы, ни суета санитаров, ни урчание машин - ничто не интересовало его; выкурить папиросу на свежем воздухе и не насладиться вкусом дыма, не ощутить всю сладость минуты просто немыслимо; и еще - вспомнить о том, как мужественно держалась девчонка, у которой осколком оторвало руку, а девчонка - удивительно милая, смотришь - и года свои забываешь; войдешь в палатку, снова потекут телеграфные ленты бинтов, но - это будет потом, когда войдешь в палатку.
Чья-то рука легла на плечо.
- Добрый вечер.
- Лейтенант, дружище, ты как здесь?
- Раненый у вас умер, вон в той. - Володин кивнул в сторону палатки, в которой видел умершего бойца.
- Все может быть. Там лежат безнадежные, которых нельзя транспортировать. Ты как сюда, а? Вижу: цел, невредим. А-а, постой, погоди, не к ней ли?
- К кому?
- Одну тут привозили с развилки, волосенки светлые, ей-ей...
- Фамилия?
- Не помню. Да ты сам можешь узнать, тут сержант их лежит. Тоже, - Худяков покачал головой, - в живот, безнадежный. Вон в той, кажется, палатке... Куда ты? Погоди, успеешь!...
- Сейчас вернусь.
Несмотря на то что Шишаков лежал как раз напротив стола, на котором горела сальная свеча, Володин не сразу узнал старого сержанта. Тот похудел, осунулся за эти часы; на лице его теперь ясно выделялись скулы, и даже рыжие усы, всегда по-фельдфебельски бодро торчавшие из-под ноздрей, казалось, сникли, потеряли свою прежнюю упругость. Изменился и голос. На торопливые вопросы Володина он отвечал медленно, будто напрягал память: нет, Людмила Морозова не ранена, она уехала на хутор Журавлиный; туда все уехали, там развилка и организуется новый пост...
- Значит, уехала?
- Да, уехала. А меня в живот... Но фельдшер сказал, выживу. Фельдшер говорит, мне повезло. Не обедал, говорит, ты, кишки были пусты, вот осколок и прошел между ними. Только толстую задел. А толстая, говорит, не самая главная, так что выживу. - Сержант помолчал, пересиливая боль, и поманил Володина наклониться пониже. - Слышь, лейтенант, а я как раз перед этим по-большому сходил, хе-хе. - Хотел засмеяться, но только страдальчески обнажил желтые прокуренные зубы. - Как раз перед этим, ровно знал, хе-хе...
- Все обойдется, все будет хорошо.
Ничего более утешительного Володин не мог придумать и повторил эти слова машинально, лишь бы не молчать; и улыбался, хотя ему вовсе не хотелось улыбаться - он знал, что старик Шишаков не выживет; все, кто лежал в этой палатке, - все были обречены.
С лесной поляны били тяжелые орудия. И сальная свеча на столе, и брезентовая крыша палатки вздрагивали от сильных толчков. Толчки повторялись через равные промежутки, было похоже, что кто-то огромным молотом разбивал землю и те секунды, что проходили между ударами, как раз требовались для нового взмаха. Володин не заметил, когда именно открыла огонь батарея, - когда он еще был во дворе и разговаривал с Худяковым или раньше, когда пересекал овраг, но то, что уже соломкинская батарея включилась в бой, настораживало внимание. Вероятно, наши отошли, а немцы продвинулись настолько, что можно по ним стрелять даже отсюда, из Соломок! Володин все еще смотрел в бледное, заострившееся лицо старого сержанта и, улыбаясь, повторял: "Все обойдется! Все будет хорошо!" (эти слова теперь произносились не только для Шишакова, ими Володин отвечал и на свои собственные мысли: увидит ли Людмилу еще когда-нибудь? как обернется сражение? останется ли сам он, Володин, жив или вот так же, пожелтевший и худой, будет лежать в палатке и верить в свое выздоровление, а по ту сторону брезентовой стены, может быть, тот же Худяков в белом халате с засученными рукавами скажет Пашенцеву: "Безнадежный!...") - он все еще всматривался в синие жилки морщин на старческом лице сержанта и, улыбаясь, произносил: "Все будет хорошо!" - но уже знакомое ощущение близости боя охватывало его. Главное- там, в окопах, где бушуют разрывы и решается судьба сражения; главное - там, и туда нужно спешить... Раненый, к которому Володин сидел спиной, все время бредил, выкрикивал команды, кого-то проклинал; за стеной палатки зашуршали шаги - прошли санитары; один из них бодро насвистывал "Пусть ярость благородная..." Мелодия оборвалась, слышались только глухие удары пушек, но эти удары уже воспринимались как маршевый ритм мелодии: "Идет война народная..." По булыжной мостовой, по той памятной булыжной мостовой, запорошенной белым снегом, шли серые колонны к теплушкам, и четкий стук тысяч сапог потрясал улицу; тысячи голосов сурово и торжественно выводили: "...священ-на-я война!" - в такт шагам; весь техникум высыпал на тротуар; до самого вокзала шел Володин за колонной, а потом стоял и смотрел, пока не отъехал эшелон; тогда, в тот хмурый декабрьский день, он впервые не по книгам узнал, что такое Родина; песня пробудила в нем еще ни разу не испытанное чувство большого долга. Володин торопил минуту, когда сможет выполнить долг. Иногда казалось, эта минута уже наступала: первый раз - когда ощутил в ладонях, совсем нежных, только что державших ручку и карандаш, тяжелое и холодное ложе винтовки; потом - первый выстрел; потом - настоящий окоп, настоящие пули, сбрившие траву у окопа, настоящие мины, которые шипели над головой: "ищу-ищу-ищу!" - и первый грохот разорвавшегося тяжелого снаряда; потом - ночной бой, ночная контратака, в которой Володин ничего не видел и ничего не понял, только кричал "ура" и никого не встретил и не рассек очередью из автомата; потом... И сальная свеча на столе, и брезентовая крыша палатки все так же вздрагивали от толчков; все тем же размеренным ритмом били тяжелые орудия с лесной поляны; Шишаков что-то говорил, и Володин никак не мог понять, о чем он говорил.