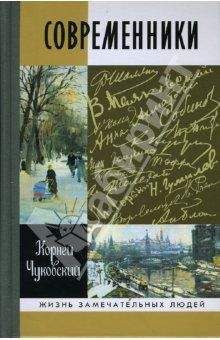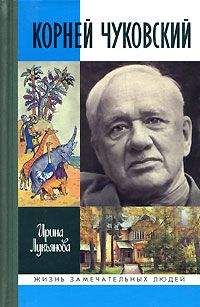Радушие семьи изумляло меня. Оно выражалось не в каких-нибудь слащавых приветствиях, а в щедром и неистощимом хлебосольстве. Приходили к Степану Васильевичу какие-то обтерханные, молчаливые, пропахшие махоркой, явно голодные люди, и их без всяких расспросов усаживали вместе с семьею за длинный, покрытый клеенкой стол и кормили тем же, что ела семья (а пища у нее была простая, без гурманских причуд: каша, жареная скумбрия, вареная говядина), и долго поили чаем к которому и гости и хозяева питали великую склонность. Обычно обедали молча и даже как будто насупленно, но за чаепитием становились общительнее, и тогда возникали у них бурные споры о какой-нибудь статье Михайловского, о Льве Толстом, о народничестве.
Кроме литературы, в семье Житковых любили математику, астрономию, физику. Смутно вспоминаю какие-то электроприборы в кабинете у Степана Васильевича. Помню составленные им учебники по математике; они кипой лежали у него в кабинете — очевидно, авторские экземпляры, присланные ему петербургским издателем.
Очень удивляли меня отношения, существовавшие между Степаном Васильевичем и его сыном Борисом, то были отношения двух взрослых, равноправных людей. Борису была предоставлена полная воля, он делал что вздумается — так велико было убеждение родителей, что он не употребит их доверия во зло. И действительно, он сам говорил мне, что не солгал им ни разу ни в чем. Говоря об отце даже с матерью, даже с сестрами, он называл его Степаном Васильевичем. Свою мать и в глаза и за глаза всегда именовал Татьяной Павловной. Раньше я никогда не видывал подобной семьи и лишь потом, через несколько лет, убедился, что, в сущности, то была очень типичная для того времени русская интеллигентская трудовая семья, каких было немало в столицах и больших городах — в Саратове, в Киеве, в Нижнем, в Казани, — щепетильно честная, чуждая какой бы то ни было фальши, строгая ко всякой неправде. В ней не было ни тени того, что тогда называли мещанством, и этим она была не похожа на все прочие семьи, которые довелось мне в ту пору узнать. Живо помню, с каким восхищением я, тринадцатилетний мальчишка, впитывал в себя ее атмосферу.
Что раньше всего полюбилось мне в житковской квартире — это множество книг и журналов и прекрасная готовность хозяев поделиться прочитанной книгой с другими, чтобы книга не осталась ни одного дня без читателей. При первом же моем посещении Житковых, едва только я случайно признался, что мне никогда не доводилось читать полное издание «Дон-Кихота», Житков-отец ушел в другую комнату и вынес оттуда Сервантеса — толстый том с рисунками Гюстава Доре — и не то что предложил ее мне, а потребовал, сердито потребовал, чтобы я взял ее с собой домой и прочитал, «да не как-нибудь, а серьезно и вдумчиво».
У него, как и у его сына Бориса, было в характере что-то суровое, и я сказал бы даже: деспотическое. Он занимал в порту сравнительно мелкую должность, но пользовался, как я вскоре заметил, большой популярностью среди моряков, особенно низшего ранга. Его терпеть не могли капитаны и владельцы судов, но матросы, кочегары и вообще все «труженики моря» относились к нему с величайшим доверием. Его нравственный авторитет в их глазах был огромен. При всяком конфликте с начальством они шли к Степану Васильевичу, либо в контору, где он работал, либо — чаще всего — к нему на квартиру, и он терпеливо выслушивал их и после долгого молчания выносил приговор, всегда клонившийся к защите пострадавших. Борис был похож на него — не наружностью, а психическим складом. Наружность же у Степана Васильевича была очень внушительная, хотя росту он был невысокого: борода в стиле семидесятых годов, длинные волосы, строгие глаза, без улыбки. Таким я представлял себе — по портретам — Салтыкова-Щедрина.
Служба, видимо, не удовлетворяла его; часто он возвращался с работы раздраженный и хмурый и мрачно шагая по своему кабинету, и тогда все говорили: «Он не в духе», — и не смели заговаривать с ним.
Мать Житкова была пианистка. Маленькая, худощавая женщина, преданная музыке до страсти. Подходя к тому дому, где жили Житковы, я часто еще издали слышал очень громкие звуки ее экзерсисов, наполнявшие собою весь дом.
Аккомпанировал ее сложным и замысловатым мелодиям ровный рокот спокойного моря, расстилавшегося чуть не у самых дверей. Мелодии были бравурные, но мне слышался в них голос тоски. Ибо я по опыту знал, что мать моего друга недаром так энергично и жадно набрасывается на раздребезжен-ное свое пианино: для меня это всегда было верным сигналом, что она поссорилась с мужем — и теперь топит свое горе в рапсодиях. Ссоры всегда были пустяковые: вдруг из-за какой-нибудь мелочи, из-за газетной или журнальной статьи Степан Васильевич, крутой и гневливый, скажет Татьяне Павловне оскорбительно-резкое слово, после чего насупится, уйдет в кабинет, хлопнет дверью и — такой уж установился обычай — не разговаривает с женой по нескольку дней, а порою и недель. Мне, мальчишке, это представлялось вопиющей бессмыслицей: как могут любящие, взрослые люди наносить друг другу такую ненужную душевную боль! Тогда, по молодости лет, я еще не догадывался, что этим занимаются именно взрослые, особенно если они любят друг друга.
Почему-то больше всего мне было жалко Степана Васильевича хотя эта многодневная пытка молчанием всегда возникала по его произволу. Должно быть, слишком уж явно бросалось в глаза, что терзается он нисколько не меньше жены, и, кроме того, у него не было прибежища в музыке.
Основываясь на практике наших школьных ребяческих ссор, я воображал, что ему так же легко, как и нам, гимназистам, в одну минуту прекращать свои распри. Но в том-то и дело, что он никак не умел сломить свой упрямый характер, в котором наряду с добротой и сердечностью уживались, как ни странно, черты деспотизма.
В детстве сложность души человеческой кажется непостижимой загадкой, и потому меня так изумляло, что Степан Васильевич, больше всего на свете желая помириться с женой и сказать ей ласковое слово, все же упрямо молчит за обедом и ужином, угнетая ее — и весь дом — своим нарочитым многодневным молчанием.
Зато весь дом, казалось, улыбался, когда музыка в нем затихала, и к вековечному говору волн уже не примешивались рапсодии Листа. Это значило: мир восстановлен. Это значило: в доме опять доброта, деликатность, душевный уют. В такие дни — тотчас же после прекращения музыки — я наверняка знал, подходя к этому милому дому, что Степан Васильевич, подчеркнуто учтивый, уступчивый, благодушно сидит за большим самоваром вместе со своей повеселевшей женой (словно он воротился из какого-то дальнего странствия), и при этом глаза у него чуть-чуть виноватые.