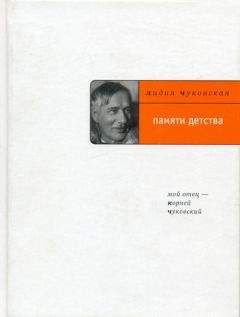Лошади, присыпанные снегом, по мягкой дороге шагают натужно, медленно; и финны рядом с возами – в куртках, в валенках, в ватных брюках, заправленных в валенки, и в квадратных кожаных шапках на меху – блестящая кожа делает шапки похожими на шлемы. Медленно, нудно тянется обоз; мне надоедает глядеть на лошадей и на прозрачные прямоугольники только что вырубленного льда; ах, в одном – внутри, как в стакане, – еловая ветка! Как она попала туда и как ее оттуда добудут? Вдребезги разобьют лед?
Наконец обоз проскрипел. Последняя лошадь, последняя глыба льда, последний шлем.
Мы ступили на дорогу. И тогда новая помеха – Репин. Оказалось, он на той стороне. В теплых башмаках, в мягкой меховой шапке, весь припорошенный снежком, пережидает обоз, как и мы.
Мне досадно: теперь они будут разговаривать! Опять стой!
Репин, сняв перчатку, учтиво здоровается с Корнеем Ивановичем, потом протягивает руку мне.
Нет, долго ждать не приходится. Что-то такое условились насчет «среды».
Снова учтивые рукопожатия – и Репин исчезает в снегу.
Мы движемся сквозь снег в одну сторону, он – в другую.
Но не успеваем мы сделать и десяти шагов, как происходит нечто странное. В отца моего словно вселяется бес. Корней Иванович вдруг срывает с моей руки перчатку и бросает ее далеко в сугроб, к кольям чужого забора.
– Тебе Репин протягивает руку без перчатки, – кричит он в неистовстве, – а ты смеешь свою подавать не снявши! Ничтожество! Кому ты под нос суешь рукавицу? Ведь он этой самой рукой написал «Не ждали» и «Мусоргского». Балда!
Я, как няня Тоня, начала реветь.
Я, как няня Тоня, не понимаю, в чем моя вина. Репин со мной поздоровался. Я подала ему руку и ответила «здравствуйте». Откуда мне знать, что в перчатке нельзя? Мне этого раньше не говорили. А это был тот самый, обыкновеннейший Репин, который рассказывал мне про белку, и всегда угощал нас с Колей конфетами, когда мы приносили ему письмо от папы, и позволял бегать по лесенкам у него в доме. Репин, просто Репин. За что же?
Несправедливо!
И чего это они там не ждали! И кто такой Мусоргский?
Наверное, Корней Иванович был в своем гневе несправедлив, не прав, и уж во всяком случае непедагогичен. Гораздо правильней было бы с его стороны просто объяснить мне – спокойно, весело, полунасмешливо, как он это великолепно умел, что дети, здороваясь со взрослыми, должны всегда снимать перчатку. Ведь объяснил же он Коле, раз и навсегда, без всякого крику, что мальчик, переступая порог любого дома или здороваясь на улице с любым человеком, должен прежде всего снять шапку. Зачем же тут надо было на меня кричать? Да еще, проваливаясь в снег по пояс и принеся перчатку от забора, колотить меня ею изо всех сил по плечу, будто бы стряхивая снег, а на самом деле от непрошедшей злости?
Но как я благодарна ему теперь за эту неправоту, за эту несправедливо нанесенную мне обиду!
За этот поучительный гнев, которым он разразился, когда ему почудилось, будто я с недостаточным уважением прикоснулась к руке, протянутой мне искусством!
«…человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян – убожество их психики, их «тупосердие» (по выражению Герцена)».
Так писал Корней Чуковский после опыта целой жизни, в 1965 году, в статье, озаглавленной «О духовной безграмотности»[13].
Встречи с людьми «тупосердыми» вызывали в нем смешанное чувство гнева, презрения и жалости. В конце концов верх брала жалость.
«Душевных уродов» – людей, не прошедших эмоциональной выучки и потому оставшихся «духовно безграмотными», склонен он был не только высмеивать, но и жалеть. «Страшный изъян», «убожество психики» – разве не меньше достоин этот изъян сожаления, чем физическое убожество – глухота, слепота?
О той девушке, которая в 1965 году оказалась неспособной испытать радость, читая Гоголя, уловить переходы от одной тональности к другой, от тихого смеха к хохоту, от хохота к пророчествующей патетике, он написал с жалостью, как о безногой или горбатой:
«Никто не научил ее восхищаться искусством – радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими верными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева, и я пожалел ее, как жалеют калеку»[14].
Для духовных калек у него в Дневнике существует и другое наименование: «обокраденные души».
Слово «бедный» – одно из распространенных в его лексиконе. Кроме общепринятого значения оно имело для него и особое.
Л. Ч.
«Бедная, бедная курица!» – написал Корней Иванович в статье, посвященной детскому языку. Речь шла об одной матери, осыпавшей его бранью за то, что он осмелился предложить родителям вслушиваться в детскую речь. Отвечая разгневанной матроне, он повторил свои доводы, сослался на солидные труды ученых и, всласть поиздевавшись над невежеством своей корреспондентки, напоследок воскликнул:
«Бедная, бедная курица!»[15]
Конечно, это издевка, но все-таки смягченная жалостью. Ведь это тоже в своем роде «обокраденная душа». Могла бы стать человеком, думающим, учащимся, воспитывающим – подлинной матерью! – а осталась курицей, кудахтающей без толку над высиженным ею цыпленком… А через несколько десятилетий об одной самоуверенной даме, американке, изуродовавшей его книгу при переводе на английский язык: «Бедная, бедная халтурщица!» Сначала громы и молнии в письмах к ней и о ней, а напоследок: «Бедная, бедная!»
«Завистливый, самовлюбленный мерзавец», – об одном литераторе, постоянно на него нападавшем с высоты собственной учености и гениальности. Казалось бы, характеристика исчерпывающая? Но нет: тут же «бедный»; «…я испытывал жалость к нему… Бедняга, бедняга!»
1926. Ленинград. Опять дневниковая запись. Тут понятие, вкладываемое в слово «бедный», звучит с совершенною ясностью, громкостью, отчетливостью, полнотой и пронзительностью.
Дело растратчиков с карточной фабрики: процесс Батурлина и других. Они из месяца в месяц хапали десятки тысяч рублей и, пока растрата не была обнаружена, жили в свое удовольствие.
Корней Иванович просидел день в зале суда. Вернувшись домой, написал:
«Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски – эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно. – особенно таким молодым и смазливым, – а вино? Да неужели пойти в Эрмитаж не большее счастье? Неужели никто им ни разу не сказал, что, напр[имер], читать Фета – это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит, и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и не нужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета это «одно из высших достижений русской лирики», а что эта лирика – есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает: не знал и Батурлин, не знал и Ив. Не знают также ни Энтин, ни судья, ни прокурор».