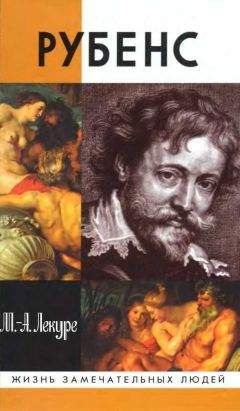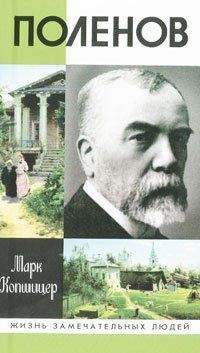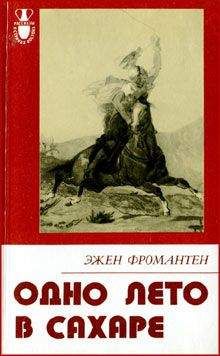«Ей [мадам Жервезэ] нравился этот свод над головой, похожий на золотую арку, изукрашенный узорами, кессонами и арабесками, нравился льющийся из оконных проемов солнечный свет, в лучах которого фигуры святых казались живыми. Она любила празднично пламенеющее сияние плафона с торжествующей вакханалией красок, на котором сквозь легкую дымку, словно сквозь пары фимиама, представал взору победительный и многоликий Апофеоз Избранных, едва удерживаемый в границах пухлых, увитых цветами бордюров; казалось, что здесь, под аркой, застыли настоящие облака, перемежаемые осколками небесной голубизны; казалось, что крупные фигуры ангелов вот-вот взмахнут крыльями и начнут перебирать ногами. Это живое колыхание, это на глазах рождающееся и замирающее трепетание, этот вишневый полусвет, проникающий через витражи окон вместе с тонкими стрелами лучей и придающий группам молящихся неземную легкость и прозрачность, этот сокровенный полумрак будуара, неожиданно оборачивающийся тайной приобщения к святая святых, это страстное томление, разлитое в непринужденной свободе причудливых поз, это обилие безупречной формы тел и голов, теряющихся в перспективе картин и статуй, эти лица, озаренные улыбкой небожителей, эта всеохватная нежность, словно явившаяся из Божественного экстаза святой Терезы, наполняли очарованную душу мадам Жервезэ благоговением и из простого вместилища мрамора, золота и драгоценных каменьев переносили ее в храм Божественной любви.
[…] Но больше всего любила она тот церковный придел, где располагалась часовня св. Игнатия. Она сама не замечала, как ноги несли ее сюда, стоило ей войти в церковь, и как снова сворачивала в часовню перед тем, как выйти. На невысоком вычурном ограждении цвета почерневшей бронзы, поддерживаемом лепными изображениями детских фигур и усыпанном по цоколю драгоценными камнями, высились восемь роскошных витых подсвечников, в глубине сверкающего золотом алтаря мерцала лампада, рассыпая вокруг снопы золотых искр; все здесь сияло золотом: совершенным в своей красоте, выставляемым напоказ и великолепием своего блеска затмевающим желтизну и зелень древностей; с высоты алтаря струилась вязь изумительной работы рамы, удерживающей тяжелую серебряную фигуру святого и увенчанной серебряными, мраморными и золотыми ангелами; еще выше, в бушевании резных волн архитрава, переливались глянцем отполированные скульптурные изображения Троицы, а в руке Бога Отца покоился шар Земли, выточенный из самого крупного куска цельного лазурита; со всех сторон скользили сверху вниз одиночные и групповые аллегорические фигуры в волнах воздушных одеяний, и пылающая пышность этой золоченой раковины оттеняла белизну мрамора. Три стены сокровищ, вот что такое была эта часовня».52
Но пока, в самом начале XVII века, час барокко, этого искусства убеждения, в котором каждый орнаментальный элемент — обилие золота и серебра, богатство цветовой палитры, каждый изгиб свода, каждая ниша и каждый завиток — выполнял свою проповедническую функцию приобщения к вере, еще не настал. Итальянское искусство переживало «теневую» фазу. Не случайно уроженцы Болоньи братья Карраччи обильно покрывали свои полотна умброй, не случайно ее же не жалел Микеланджело Меризи да Караваджо, создавая раскаленно контрастные композиции, яростный реализм которых ввергал в шок служителей культа. Это время отмечено также воцарением равновесия, возвратом к академизму, стремлением художников к совершенству, понимаемому как следование по стопам великих мастеров прошлого. Искусство повернулось лицом к эклектике и расчету, занялось поиском безупречной чистоты линий и законченности колорита, пытаясь обобщить весь опыт, накопленный Рафаэлем, Микеланджело и мастерами венецианской школы. Кульминации эти поиски достигли в творчестве жителя Рима Гвидо Рени, отказавшегося во имя изящества от любых крайностей и выстраивавшего геометрически строгие композиции в серебристо-серой цветовой гамме. Его пример наглядно иллюстрирует новое понимание красоты: «Это идеальное состояние, не нарушающее ни единой связи с природой, пребывающее в строго выверенном равновесии; это форма гармонии, в которой неуправляемые страсти выстраиваются в стройную систему разумных действий».53 Итак, мера и тень. К двум этим находкам начала XVII века следует добавить еще одну (разумеется, сделав оговорку о возможности поиска общих тенденций в живописи, которая в любую эпоху отличается разнообразием): искусство перестало обращаться исключительно к высшим слоям общества. Действительно ли оно, как полагал Клаудио Арган, воспылало стремлением обратить простой народ к благочестию? Так или иначе, но художники все чаще стали обращаться к изображению сцен народной жизни. Аннибале Карраччи осмелел настолько, что написал прилавок лавки мясника. Караваджо находил свои модели среди бродяг. Достучалось ли их искусство до народа, об этом история умалчивает, но во всяком случае оно отказалось от привычки представлять человечество лишь пурпуром прелатов, бархатом и драгоценными украшениями аристократов. Искусство обратилось к действительности во всей ее полноте. В живопись снова вошел пейзаж. Изобразительное искусство словно почувствовало, что его величие кроется не столько в том, чтобы стараться приподнять над обыденностью вечные духовные богатства своих персонажей, сколько в том, чтобы ухватить истинную сущность бытия. Караваджо представил нам святого Матфея в облике старика с большими и грязными ногами, который с изумлением узнает о своем избранничестве от растрепанного ангела, косящего на него взглядом вороватого юнца. В его же «Успении Богородицы» мы видим изнуренную женщину со вздутым животом и босыми ногами, словно прилегшую отдохнуть после дня утомительных трудов, над которой плачет другая женщина, похожая на служанку в трактире. Вечная ценность, какой является искусство, перестала принадлежать богачам-заказчикам. И бедняк удостоился внимания художника, не жалеющего на него ни чистоты рисунка, ни богатства красок, ни разнообразия мизансцен, ни вдохновения. После мифологического плена, в который добровольно ринулось Возрождение, живопись вернулась в мир людей.
Аннибале Карраччи (1560-1609) и Караваджо (1573-1610), старшие современники Рубенса, во время его пребывания в Италии еще продолжали активно работать. Однако фламандский художник не приложил никаких усилий, чтобы встретиться с ними в Риме, как не встречался он и с Гвидо Рени. Не больше привлекало его и общество фламандских художников, обитавших на пьяцца Спанья, близ папского квартала, и погрязших в кутежах и взаимных склоках. Рубенс предпочитал проводить время с братом Филиппом, в квартире на виа делла Кроче, которую они занимали вместе с двумя слугами. Со своим соотечественником Паулем Брилем и с великим Адамом Эльсхеймером он познакомился исключительно по инициативе врача Фабера, лечившего его от плеврита. Эта болезнь уложила Рубенса в постель на всю зиму 1606 года. Гораздо больше людей его занимали картины. Это не значит, что в Италию он приехал в погоне за модой, намереваясь побыстрее «передрать» все, что нравится публике. Его интересовало все итальянское искусство целиком. Его бесконечные поездки вдоль и поперек полуострова походили на охоту за шедеврами. Брат часто просил его поделиться своими путевыми впечатлениями, однако нам искать их следует не в письмах Рубенса, а в его дорожных альбомах, заполненных рисунками: «…выбирая то, что ему нравилось, он иногда копировал увиденные работы, иногда записывал свои размышления, обычно сопровождая их беглым рисунком пером, для чего постоянно возил с собой запас бумаги в тетрадях».54