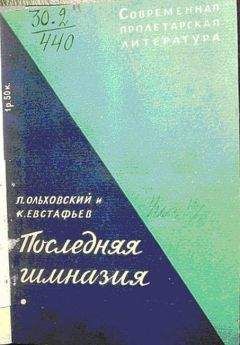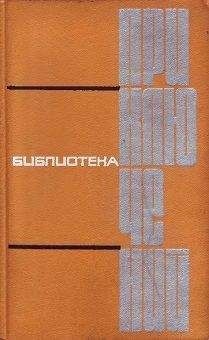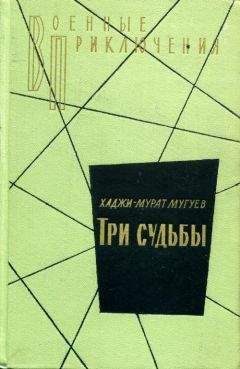В апреле 1943 года Пантелеев подал заявление в ГлавПУРККА с просьбой призвать его в армию. Он был направлен в Военно-инженерное училище в Болшеве, затем служил в инженерных войсках, был редактором ежедневной батальонной газеты «Из траншей по врагу».
Осенью того же года его отозвали из армии в распоряжение ЦК ВЛКСМ. Некоторое время он работал в Военном отделе, потом его направили на работу в издательство «Молодая гвардия». Несколько лет он был членом редколлегии журналов «Дружные ребята» и «Мурзилка».
В январе 1944 года по командировке ЦК ВЛКСМ Пантелеев едет в Ленинград: это было время решающих боев, окончательного разгрома немецкой группировки.
И вот снова Ленинград, город, уде все «до спазмов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо». Целых — и каких! — полтора года прошло со времени отъезда. «Хожу, хожу — и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и — нагореваться». И казалось еще, целая жизнь прошла со дня приезда и до того лня, когда прозвучал салют в честь освобождения города от блокады. Не знаю, как описать и с чем сравнить мгновенье, когда на углу Ковенского и Знаменской толпа женщин — не одна, не две, а целая толпа женщин навзрыд зарыдала, кода мальчишки от чистого сердца — и также со слезами в голосе — закричали «ура», когда у меня у самого слезы неожиданно хлынули из глаз».
В 1947 году, отказавшись от предложения перебраться на постоянное жительство в Москву, Пантелеев в звании капитана запаса возвращается в родной Ленинград.
Так выглядела внешняя биография Пантелеева в годы Великой Отечественной войны. Но за этим стояла большая жизнь писателя-патриота, подлинного ленинградца. Он не растерялся в труднейших условиях, в каких находился почти год блокады: не имея возможности печататься и оружием слова участвовать в непреклонной борьбе, которую вели писатели за свой город, он работал ежедневно, уверенный в необходимости этой работы, убежденный, что об этих днях человечество должно будет узнать — и узнать всю правду. Потому и писалось ему «легко, как никогда легко и свободно». Вот декабрьская запись 1941 года:
«Сил нет, а тянет писать, работать. Сознание, как никогда, ясное… у стола моего до сих пор висит приколотый кнопками, начертанный еще в позапрошлом году девиз: «Nulla dies sine linea!». Плакатик закоптел, съежился, еле виден при свете коптилки, но — живет, вызывает, требует. Требует записывать то, что происходит вокруг, сегодняшнее, сиюминутное, писать правду и только правду (эти события лжи не потерпят…)».
В Музее истории Ленинграда хранится множество дневников времен блокады: обессиленные люди, не бравшиеся, быть может, никогда раньше за перо, считали себя обязанными запечатлеть по возможности дни и часы своей жизни, убежденный в том, что пережитое ими должно стать достоянием человечества и что дневник будет в этом смысле самым достоверным документом. Форма дневника, к которой стихийно обратились сотни никогда не писавших людей, оказалась близкой и многим литераторам. Не случайно одно из лучших произведений о блокаде получило название «Февральский дневник» (О. Берггольц), широко известны относящиеся к Ленинграду дневники военных лет Веры Инбер «Почти три года», Вс. Вишневского.
Давно уже были опубликованы и неоднократно переиздавались очерки Пантелеева «В осажденном городе» и «Январь 1944». В последней его книге «Приоткрытая дверь» (1980) большое место занимает раздел «Из старых записных книжек (1924–1947)».
Страницы этого дневника открывают много нового о войне и о жизни писателя в эти годы.
Мы узнаем теперь больше и о московском периоде жизни писателя, нам становится ясно, почему Алексей Иванович не мог приспособиться ни к прекрасным условиям «генеральского» санатория в Архангельском, ни к госпитальным — на Пироговке, ни к шумному быту гостиницы «Москва», пока наконец не подал заявление в ГлавПУРРКА с просьбой мобилизовать его. И только тогда стало «лучше, чище и, главное, спокойнее». Много интересного и поучительного мы узнаем о буднях Военно-инженерного училища, о Москве с сорок второго по сорок седьмой год.
Как всегда, на первом месте люди, их чувства, мысли, поступки. Скупо, точно, без всякой аффектации образ времени возникает через такую, скажем, запись:
«Старуха в трамвае:
— Нет, братцы мои, я умирать сейчас несогласная. У меня все деточки на фронте. Вот война кончится, всех деточек своих повидаю, обниму, перецалую, а уж тогда — хороните меня с музыкой».
Резким контрастом к этим величавым словам покажутся иные:
«Тетка с очень тонкими подкрашенными губами:
— Всех жалеть — сердца не хватит».
Много будет еще московских впечатлений, но всегда рядом с ним Ленинград: то, что пережито там, невозможно забыть, невозможно не чувствовать постоянно.
Вот эпизод, отмеченный 2 августа 1942 года, когда он уже лечился в подмосковном «генеральском» санатории.
«Кормят нас — на убой. <…>
И тем не менее…
Сегодня за обедом вижу — мой сосед съел котлету, а гарнир, гречневую кашу, почти не тронул.
— Вы не будете? — говорю я.
— Что не буду?
— Доедать.
Недоуменно пожимает плечами.
— Нет.
И вот я спокойно придвигаю к себе его тарелку и ем недоеденную им кашу.
Он с удивлением и даже с некоторым ужасом на меня смотрит. Заметив этот взгляд, я говорю:
— Я — ленинградец, товарищ полковник.
Это отношение к хлебу и вообще ко всякой пище, как к чему-то священному, благословенному, вероятно, никогда не исчезнет».
Не случайно рядом с этой записью другая — переносящая читателя в Ленинград декабря 1941 года. Мама принесла ему, заболевшему, кусочек хлеба. Он неловко разломил его, и крошка упала на пол. Он не поднял ее сразу, но, лежа в постели, все время помнил: ему предстоит что-то приятное. «Что же? Ах, да, могу нагнуться и поднять с пола эту крошку — грамм или полтора черного хлеба!..» эта крошка хлеба запомнится на долгие годы.
Самые сильные страницы — и о людях, и о событиях, и о себе самом — приходятся на 1941–1942 году. Из многих записей, которые не оставят равнодушным читателя, особенное чувство вызывают две: одна под названием «Стыдно вспомнить, другая — «Радостно вспомнить». Читая их, понимаешь, как обострено все было в жизни каждого человека и в жизни Ленинграда, какими мерками — не только общечеловеческими, но еще и своими, ленинградскими — мерялся тогда каждый поступок, каждое побуждение человека.
«Написать! Непременно написать о нем, об этом гаде.
<…>
…Рассказать, поведать людям, что было и такое в героическом городе» — с таких слов начинается запись о соседе по больничной палате. Злобный сытый паук, утаивший от больничного начальства продуктовые карточки; с каким-то аже удовольствием он рассказывал о том, как безжалостно убивал животных.