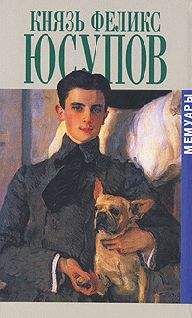Великий князь Александр также часто показывался на прогулке, иногда один, иногда с великой княгиней. Это обстоятельство еще более привлекало туда избранное общество. Мы с братом также бывали среди гуляющих и всякий раз, встречая кого-нибудь из нас, великий князь останавливался, чтобы поговорить, и выказывал нам особое расположение.
Эти утренние встречи составляли, в некотором роде, продолжение придворных вечеров. Отношения наши с великим князем принимали с каждым днем характер все более скрепляющегося знакомства. Весной двор переехал, как всегда, в Таврический дворец, где императрица Екатерина хотела жить более уединенно и принимала по вечерам только самое отборное общество, в котором большая часть придворных кавалеров не принимала участия, если не считать концертов, дававшихся при дворе, на которые являлись по особому приглашению. Великий князь продолжал еще время от времени гулять по набережной. Однажды при встрече со мной, он выразил сожаление, что мы видимся так редко, и приказал мне прийти к нему в Таврический дворец, предлагая погулять по саду, который он хотел показать мне. Он назначил мне день и час.
Установилась уже настоящая весна: как бывает обыкновенно в этом климате, природа спешила наверстать потерянное время, и растительность быстро стала распускаться. Все было покрыто зеленью и цветами.
В назначенный день и час я отправился в Таврический дворец. Мне очень жаль, что я не записал точное число этого дня, который имел решительное влияние на большую часть моей жизни и на судьбы моего отечества. С этого дня и после этого разговора, который я хочу передать, началась моя преданность великому князю, я могу сказать, наша дружба, породившая ряд событий, счастливых и несчастных, цепь которых тянется еще и сейчас и будет давать знать о себе в продолжение еще многих лет.
Как только я явился, великий князь взял меня под руку и предложил пройти в сад, желая, как он выразился, услышать мое мнение об искусстве англичанина-садовника, который сумел убрать сад с большим разнообразием и притом так, что ниоткуда нельзя было видеть конца сада, несмотря на то, что он был невелик.
Мы обошли сад во всех направлениях, за три часа очень оживленного, беспрерывного разговора.
Великий князь сказал мне, что поведение мое и моего брата, наша покорность в столь тяжелом положении, спокойствие и безразличие, с которым мы все приняли, не придавая ничему никакого значения и не уклонившись от неприятных нам милостей, — все это возбудило его уважение и доверие к нам; что он сочувствовал нам, угадывал наши чувства и одобрял их, что он испытывал потребность разъяснить свой действительный образ мыслей; что ему было невыносимо думать, что мы считаем его не тем, чем он является на самом деле. Он сказал мне тогда, что совершенно не разделяет воззрений и принципов правительства и двора, что он далеко не оправдывает политики и поведения своей бабки и порицает ее принципы; что его симпатии были на стороне Польши и ее славной борьбы; что он оплакивал ее падение; что, в его глазах, Костюшко был великим человеком по своим доблестным качествам и по тому делу, которое он защищал и которое было также делом человечности и справедливости. Он признался мне, что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, равно должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересовался Французской революцией; что не одобряя этих ужасных заблуждений, он все же желает успеха республике и радуется ему. Он с большим уважением говорил о своем воспитателе Лагарпе, как о человеке высоко добродетельном, истинно мудром, со строгими принципами и решительным характером. Именно Лагарпу он был обязан всем тем, что было в нем хорошего, всем, что он знал, и в особенности — теми принципами правды и справедливости, которые он счастлив носить в своем сердце и которые были внушены ему Лагарпом. Обходя сад вдоль и поперек, мы несколько раз встретили великую княгиню, которая также прогуливалась. Великий князь сказал мне, что его жена была поверенной его мыслей, что она одна знала и разделяла его чувства, но что, кроме нее, я был первым и единственным лицом, после отъезда его воспитателя, с кем он осмелился говорить об этом, что чувства эти он не может доверить никому без исключения, так как в России никто еще не был способен разделить или даже понять их; что я должен был чувствовать, как ему будет теперь приятно иметь кого-нибудь, с кем он получит возможность говорить откровенно, с полным доверием.
Разговор этот, как легко можно себе представить, был полон излияниями дружбы с его стороны, выражением удивления, благодарности и уверениями в преданности, — с моей.
Он отпустил меня, говоря, что будет стараться видеться со мной насколько возможно чаще, и советовал мне быть чрезвычайно осторожным и хранить во всем безусловную тайну, разрешив, однако, доверить ее моему брату.
Сознаюсь, я уходил пораженный, глубоко взволнованный, не зная — был ли это сон или действительность. Как! Русский князь, будущий преемник Екатерины, ее внук и любимый ученик, которого она хотела бы, отстранив своего сына, видеть у власти после себя, о котором говорили, что он наследует Екатерине, этот князь отрицал и ненавидел убеждение своей бабки, отвергал недостойную политику России, страстно любил справедливость и свободу, жалел Польшу и хотел бы видеть ее счастливой. Не чудо ли это было, что в такой атмосфере и среде могли зародиться столь благородные мысли, столь высокая добродетель?
Я был молод, полон экзальтированных мыслей и чувств; необычайные вещи удивляли меня не надолго, я охотно верил в то, что мне казалось великим и добродетельным. Я был во власти легко понятного обаяния; было столько чистоты, столько невинности, решимости, казавшейся непоколебимой, самоотверженности и возвышенности души в словах и поведении этого молодого князя, что он казался мне каким-то высшим существом, посланным на землю Провидением для счастья человечества и моей родины. Я дал себе обет безграничной привязанности к нему, и чувство, вызванное во мне в эту первую минуту, продолжалось даже и в то время, когда породившие его иллюзии стали исчезать одна за другой; позднее это чувство устояло перед всеми ударами, которые сам Александр нанес ему, и не погасло никогда, несмотря на множество причин и грустных разочарований, которые могли бы его искоренить. Я рассказал моему брату о происшедшем разговоре, и мы оба, дав волю изумлению и восхищению, пустились мечтать о лучезарном будущем, которое, казалось, открывалось перед нами. Нужно вспомнить, что в то время так называемые либеральные идеи были распространены в гораздо меньшей степени, чем теперь; что они не проникли еще во все классы общества и в кабинеты государей; что, наоборот, всякие намеки на них считались чем-то позорным и предавались анафеме при дворах и в салонах большей части европейских столиц, а в особенности в России, в Петербурге, где все идеи старого французского порядка в своем наиболее крайнем виде так привились на почве русского деспотизма и раболепия.