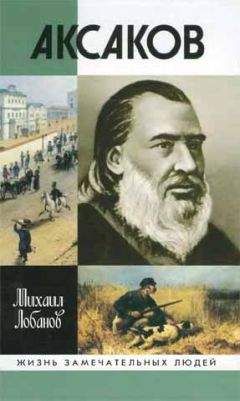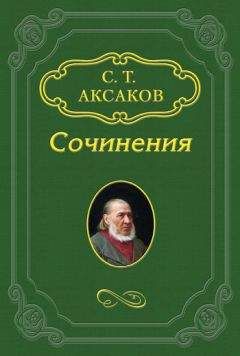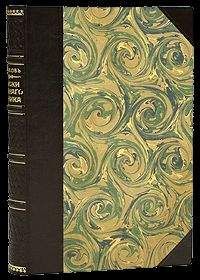Было начало сентября, до Покрова у крестьян много дел и забот. На Симеона Столпника солить огурцы, потом — собирать лук; стричь овец, бить гусей; на Сергия — капусту рубить; на Савватия — убирать улья в омшаники, много других мужицких и бабьих работ, но у старика на уме был недавно законченный последний посев озимой ржи, все другое меркло перед ржицей. Он повеселевшим голосом вещал: «Коли рожь убрана к Ильину, кончай посев к Фролу, а поспеет поздней — кончай к Семену».
Долго еще говорили хозяин и гость, и выходило, что в этом разговоре ничего не было пустого: все было по делу, толково в речи старика. Когда гость спросил, не балуются ли мужики вином, хозяин отвечал: «Отродясь не знали этого сраму. Завелся один мокрый (так он называл пьяницу), да скоро и за ум взялся. Душа дороже ковша».
Из другой половины избы через приоткрытую дверь давно слышались мужской и детский голоса, а теперь явственно доносилось оттуда:
— Придет Маслена — будет и блин: одиножды один — один. Ну-ка, повтори!
Ребячий голос без запинки отчеканил хитроумный стишок.
— Молодец. Ну-ка: хлеб жнем, а сено косим: дважды четыре — восемь. Отлежал бока — оттого и болят: пятью десять… сколько? — спрашивал мужской голос, а детский выкрикивал:
— Пятьдесят!
— Чего не знаешь — того не ври: семью девять шестьдесят…
— Три! — торопился досказать мальчик.
— Живи, поколь на плечах голова: восемью девять… — Наступило затишье, видно, не по плечу пришлась без подсказки задача дотоле бойкому юному математику.
— Митрий сказывает долбицу свому Петруше, — молвил старик, прислушиваясь к голосам сына и внука за дверью. — Без муки нет и науки. Митрий мой дошлый. Намедни картинку привез с ярманки, говорит, на ней атаман написан, казаков водил на французов.
Сергей Тимофеевич и до этого видел висевшую на стене картину и теперь еще раз полюбовался графом Платовым, изображенным верхом на коне.
Хозяин стал потчевать гостя чем бог послал, и Сергей Тимофеевич, чтобы не обидеть старика (от хлеба-соли не отказываются), выпил парного молока.
— Поколе был в поре, никакой работы не боялся, — пожаловался хозяин, — а с годами-то уж и никуды. Рази лапотки сплесть да лучину вон нащепать.
И он, встав с лавки, подновил в светце лучину, которая, загоревшись, тут же затрещала, метнула искры над корытцем с водой.
— К ненастью, — сказал он и, вслушиваясь во что-то, продолжал: — Корова даве тяжко мычала — быть дождю аль буре. То-то меня всего ломит.
Лучина-то, видно, не зря трещит, воздух сырой, отсырела, вот и выдает ненастье, думал Сергей Тимофеевич, следя за ее неровным горением, любуясь невольно кованой узорной рогулькой-светцом, видно, изделием местного кузнеца. Все так и должно быть. Корова перед бурей глухо мычит; человек предчувствует непогоду, когда у него начинают болеть суставы. И это уже верные приметы. Немало и суеверия в поверьях, обычаях, но и нередко то, что с первого взгляда кажется необъяснимым, имеет свой глубокий смысл. На пороге не здороваются — это значит: милости просим, входи в избу, чувствуй себя как дома, а не как чужой на пороге. Если вы пришли в гости и ушли домой сразу же после еды, то от этого пострадают хозяйские невесты: от них женихи откажутся. Сколько деликатности в намеке на невежливость таких гостей: не по-людски это, а надо посидеть, поблагодарить хозяйку, поговорить, а не показывать, что вы пришли затем только, чтобы поесть и попить, и больше вас ничто не интересует. Не роняй ни крохи хлеба, иначе будет неурожай, голод. Если ты, не доев кусок хлеба, взялся за другой, то кто-нибудь из близких голодает или будет голодать. Ясно, что это означает: надо уважать, ценить, беречь хлеб, который нелегко достается и который всему голова.
Вот заглянул в крестьянскую избу, посидел, поговорил с хозяином, и сколько останется памятного от этого осеннего вечера! Слышно было, как за окном завывал ветер, бился порывами в стекла. Не зря потрескивала горящая лучина, разыгралась непогода. Хозяин вышел проводить гостя, но Сергей Тимофеевич не пустил его дальше калитки, попрощался и пошел. Здесь, на краю деревни, было как в поле, темно и тревожно, носился на просторе пронизывающий мокрый ветер, рвал неразличимые в свисте не то лаянье, не то вой. На улице не было ни души, в избах тускло светились окна, кое-где уже гасли огни. Дышало бурей, когда он подходил к своему дому. Далекие сполохи прорезывали небо, тут же поглощаемое тьмой, прибоем шумел парк. Наступала воробьиная ночь, падавшая на осеннее равноденствие, с непроглядной темнотой, бурей, частыми молниями.
***
Холоден сентябрь, да сыт — знали проходившие деревнями странники, которым всегда подавали по совести. И эти странники — слепые певцы, и отношение к ним народа, неизменно сочувственное, — все это было для Аксакова явлением и обыденно бытовым, и глубоко поэтическим. У завалинки избы, в окружении группы людей (среди них был и Сергей Тимофеевич) стояли слепой старик с палкой в руке и мальчик с холщовой сумой через плечо. Старик, уставясь невидящим взглядом перед собою, поверх голов слушателей, тянул забирающий за душу стих о том, как и отчего зачался белый большой свет, солнце красное, звезды частые, ночи темные, зори утренние; пел о Егории Храбром, который пошел «по святой Руси, по сырой земле», сокрушался, что люди правду не творят, доброго не делают и мрачен конец неправедных дел.
Слепец жалобился и предавался веселию, тон его становился то суровым, то умиленным, безмятежно-отрешенное лицо вдруг оживлялось какой-то пристальной улыбкой, делаясь на миг как будто зрячим — так вживался он в свои никому не ведомые видения. И представлялось, что в напеве его изливалось то, что он сам испытал, пробираясь с вожаком по полям и непроезжим в дождь дорогам, укрываясь в непогоду ветхим зипуном, слыша от таких же, как он, странников сказы о напастях и страданиях, копя в памяти все услышанное в крестьянских избах, где находил приют и ночлег, гам и крик на ярмарках, плачи на похоронах, краем уха схваченное свадебное веселье, — кажется, носил он в своей душе всю слышанную им Русь.
***
В пятнадцати верстах от села Аксакова находилось Бахметьево (или, как его называли по имени помещиков, — Осаргино), где дважды в год устраивалась ярмарка. Летняя ярмарка, длившаяся с конца мая до конца июня, закончилась накануне приезда Сергея Тимофеевича в деревню, поэтому он решил поехать в более отдаленное место, уездный городок Бугульму, где только что, в середине сентября, открылась осенняя ярмарка, знаменитая Воздвиженская. Площадь кипела от многолюдия, гудела от хаоса голосов, звуков. Ржание, пофыркивание лошадей, привязанных к коновязи, мычание коров, блеяние овец, гоготание гусей, крики торгующихся, спорящих, пронзительно-вонзающее «ути-ути-ути» свистулек, веселый визг гармоник, вопли, шум, в котором все тонет и ничего не разобрать, — все это охватило его, втянуло в свой круговорот, в сплошной гул. Местный Оренбургский край славился торговлей ржаной мукой, гречихой, гречневой крупой, сотни телег были набиты мешками с этим добром, тысячи пудов ждали покупателей. Но и в этом шумном таборе были какие-то свои обжитые уголки, замечавшиеся Сергеем Тимофеевичем. Стоявшие около своих телег с мешками ржи два мужика из разных деревень, не видавшие друг друга с прошлогодней ярмарки, рассказывали о нынешнем урожае, о последнем посеве ржи, называли цену, по какой продавали хлеб. Рядом двое с размаху били друг друга по рукам — сторговались. Другие щупали мешки, стучали по ним кулаками. Сидевшая на телеге с детьми баба обняла мешки да так и застыла. За телегами, на другой стороне площади, шла торговля скотом, всякой живностью. В глазах мелькали то разгоряченные чернобородые лица около лошади, то баба, нагнувшаяся и разглядывавшая вымя коровы, как будто собиралась доить; то гогочущие гуси, высунувшие длинные шеи из корзины; то рвавшийся в завязанном мешке, визжавший поросенок… Длинные столы, уставленные маленькими бочонками, туесами меда, вырезанными сотами, над которыми бесшумно и лениво вились пчелы, и ребятишки липли, как пчелы, к меду. Бочки с капустой, с огурцами, с клюквой… Чего только здесь не было — хомуты, седла, сырые кожи, овчины, шерсть, козий пух, верблюжье сукно, ковры…