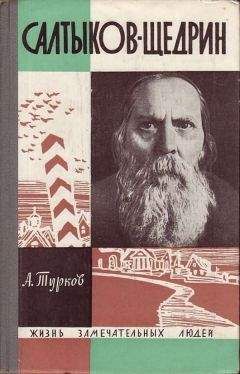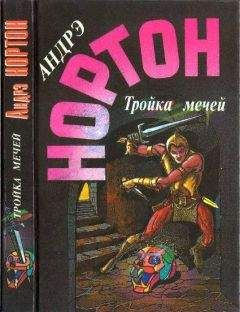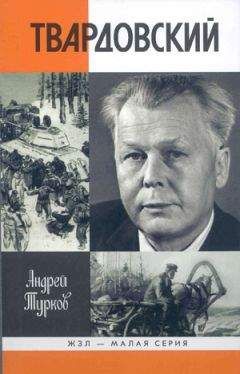Большинство негодовало на неприглядное, по их мнению, изображение Базарова; в значительной мере это произошло потому, что эксцентрические поступки и высказывания тургеневского героя реакционная журналистика широко использовала для компрометации всего прогрессивного лагеря, материалистического мировоззрения, тяготения молодежи к естественным наукам и т. п.
Салтыков тоже негодовал на Тургенева, считая появление его романа «страшной услугой» реакции и находя вполне естественным, что его печатал именно катковский «Русский вестник».
Сатирика раздражала бестолковая смерть Базарова от заражения крови: «…такого рода люди погибают совсем иным образом, — утверждал он в статье «Современные призраки» (1864 год). — Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей».
«Случай» на языке Щедрина — это вмешательство в человеческую жизнь «случайного» (то есть не признаваемого им законным и лежащего на жизни тяжелым бременем) порядка вещей. Это «волшебное» исчезновение человека из своей квартиры и водворение в Вятку, Пермь, Сибирь.
Спустя несколько лет, упомянув о Тургеневе в одном из писем, он едко переиначил известные стихи:
Сей старец дорог нам; он жив среди народа
Священной памятью…
Шестьдесят второго года.
«Стиха не выходит, но верно», — заметил он в заключение.
В «Нашей общественной жизни» Салтыков ловко парировал удары, которыми осыпали передовую молодежь консервативные журналисты, испускавшие нескончаемые вопли об угрожающих обществу «нигилизме» и «мальчишестве»:
«…«Благонамеренные» накинулись на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова фармазон и вольтерьянец. Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилисты…»
Неотступная логика автора вела читателя к выводу: разглагольствования о вреде «нигилизма», «отрицательного направления» порождены недовольством, что «отрицатели» обнаруживают гнилость существующих порядков.
Щедрин и сам проделывал ту же работу. Его статья «Современные призраки» доказывала бессодержательность и лицемерие многих «краеугольных камней» господствующей морали.
«Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми, — писал Щедрин. — Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однако ж, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страстности».
«Современные призраки» даже в более либеральные времена не могли бы появиться в печати, но сатирик опубликовал в «Современнике» очерк «Как кому угодно», где ему удалось высказать квинтэссенцию своих мыслей, нарисовав картину дворянской семьи, в которой под личиной семейного согласия царят взаимное отчуждение и ненависть:
«Все эти лица смотрят на природную связь, их соединяющую, как на что-то горькое, почти несносное; все только и ждут минуты, когда можно будет эту связь порвать! А между тем спросите у Марьи Петровны или у самого Сенички: что, такое союз семейственный? Марья Петровна ответит: как, батюшка, уж ты этого-то не понимаешь! Сеничка же скажет: семейственный союз — это зерно союза гражданского, это алтарь, это краеугольный камень!»
Разумеется, подобное стремление к анализу истинного содержания «незыблемых» понятий не могло быть одобрено в самодержавном государстве: кто его знает, на чем остановится мысль сочинителя, вдруг он от семьи — этого «зерна союза гражданского» — перейдет к самому государственному древу и поставит под сомнение искренность согласия между «отцом народа» и его «любящими детьми»? В писаниях Щедрина начальству всюду чудятся намеки, острая мысль. И за ней, как за шмелем-Гвидоном в пушкинской сказке, гоняются цензоры.
Все кричат: «Лови, лови
Да дави ее, дави…»
Черт ее знает, настоящая это лошадь или какой-то проклятый оборотень в одной из статей Щедрина:
«А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» — беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и ласке обожаемого хозяина (разве существуют на свете хозяева не «обожаемые»?)…
Лошадь — животное глупое и легковерное. Сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения…»
До чего здесь все подозрительно: и эпитет «обожаемый», который в газетах постоянно соседствует со словом «монарх», и неуместный по отношению к глупому животному пафос, и странное выражение «всякого рода извозчики»…
Провожаемая долгими подозрительными взглядами, добирается мысль к читателю, а там, словно очутившись после мороза в тепле, начинает сбрасывать с себя сковывающую ее одежду и является в своем подлинном обличии.
Ненависть к «отрицанию» — это стыдливый псевдоним мыслебоязни вообще, ненависти застоя к тому, что угрожает его нарушить. Послушать ретроградов, так это «мальчишки» и «нигилисты» породили все то зло, которое на самом деле только при их помощи общество и осознало как зло. Клевещут на «нигилистов» и вчерашние либералы, отступники, с завистью и недоброжелательством ощущающие в «мальчишках» утраченные ими самими задор и жажду справедливости.
«Под этим словом, — писал Щедрин о «мальчишестве», — подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста!..»
Не только здесь, но и во всей хронике «Наша общественная жизнь» писатель изобличал и осыпал сарказмами этих «близнецов», издававших сначала «Русский вестник», а с 1863 года и газету «Московские ведомости». Борьба с ними была очень опасной, потому что с началом польского восстания 1863 года Катков полностью порвал даже со своим прежним трусливым либерализмом и стал, по собственному выражению, «государственным сторожевым псом, охраняющим достояние хозяина и чующим, если в доме что-нибудь не ладно». И действительно, ожесточенный, захлебывающийся, остервенелый лай понесся со Страстного бульвара, где находилась редакция «Московских ведомостей».