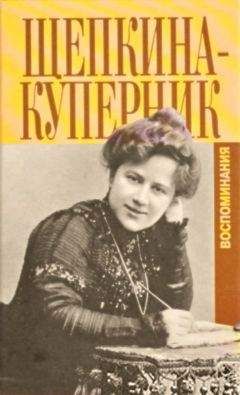Умер Мочалов далеко еще не старым – 48 лет (16 марта 1848 года). Москва торжественно проводила своего любимца на вечный могильный покой Ваганьковского кладбища и с тех пор не видала на сцене таланта такой силы. Много искренних слез пролилось тогда об этой безвременной утрате гениального артиста и доброго человека. Могила Мочалова «возобновлена» в 1892 году Обществом для пособия нуждающимся сценическим деятелям. Почтить память покойного трагика сошлось при этом на кладбище так много публики, сколько и нельзя было ожидать почти через 50 лет после его смерти…
На памятнике, поставленном на могиле Мочалова лет через десять после его смерти, вырезана следующая эпитафия:
Ты слыл безумцем в мире этом,
И бедняком ты опочил,
И лишь пред избранным поэтом
Земное счастье находил.
Так спи ж, безумный друг Шекспира,
Оправдан вечности Отцом,
Вещал он, что премудрость мира —
Безумство пред его судом.
«Безумный друг Шекспира» благодаря особенно увлекательным статьям о нем Белинского оставил навсегда свое имя бессмертным в истории русской литературы и театра. Всякий, читавший Белинского, не мог не остановиться с особенным интересом на статьях о Мочалове, характеризующих его талант вообще и исполнение некоторых ролей, в особенности роли Гамлета. Белинский увлекался игрой Мочалова, наслаждался минутами его артистического вдохновения. Он ставил талант Мочалова, несмотря на все его недостатки, выше таланта петербургского артиста Каратыгина, игра которого была всегда строго выдержана; но не столько действовала на чувство, сколько на ум. Игра Мочалова, состоявшая из вспышек искреннего, неподдельного чувства, вполне гармонировала с искренностью и страстностью увлечений Белинского. Мочалов мог считать себя счастливым, что он нашел такого горячего поклонника и такого художественного судью в Белинском, увековечившим его имя в литературе. Без этого литературного памятника имя Мочалова не умерло бы, конечно, в истории театра, но с этим именем не соединялось бы такого яркого представления, какое получается после чтения статей Белинского.
Талант Мочалова не был общепризнанным. Одни, говорит Белинский, видели в нем высшую степень совершенства, до какой может доходить трагический талант; другие видели в нем совершенно бездарного актера. И Белинский находит, что последнее суждение имело свое основание в том, что Мочалов, наделенный богатыми сценическими средствами, пренебрегал их развитием и обработкой. Некоторые из современников Мочалова не согласны с этим и находят, что Мочалов трудился всегда усердно и добросовестно. Но печальная справедливость упрека, сделанного Белинским, очевидна.
Природные «средства» Мочалова были необыкновенно выразительны, и самым прекрасным из них являлся его голос. Это был тенор, мягкий и звучный, нежный и сильный, проникавший в душу. Переходы и переливы голоса были разнообразны и красивы; его шепот был слышен в верхних галереях; его голосовые удары заставляли невольно вздрагивать. Голос Мочалова способен был выражать все оттенки страстей: в нем слышны были и громовой рокот отчаяния, и порывистые крики бешенства и мщения, и тихий шепот сосредоточившегося в себе негодования, – шепот, который раздавался бывало по всему театру, и каждое слово доходило до сердца и слуха зрителя, – и мелодический лепет любви, и язвительность иронии, и спокойно-высокое слово.
Фигура Мочалова была не особенно сценична: он был среднего роста и немного сутуловат. Но в страстные минуты вдохновения он, казалось, вырастал и делался стройным. Тогда голова его с черными вьющимися волосами, могучие плечи особенно поражали, а черные глаза казались замечательно выразительными. Лицо его было создано для сцены. Красивое и приятное в спокойном состоянии духа, оно было изменчиво и подвижно – настоящее зеркало всевозможных ощущений, чувств и страстей.
Но эти благодатные артистические данные много теряли оттого, что игра Мочалова, не подчиненная требованиям искусства, была в высшей степени неровна. Он всегда надеялся на вдохновение, на какое-то наитие, овладевавшее всем его существом и придававшее его речи и жестам что-то пламенное и увлекательное. Поэтому он всегда находился в зависимости от расположения духа. Найдет на него одушевление, говорит Белинский, и он удивителен, бесподобен; нет одушевления – и он впадает в пошлость и тривиальность. Тогда невысокий рост его делался на сцене большим недостатком, вся фигура его становилась неприятной, манеры – безобразными. Понимая, что он играет дурно, Мочалов выходил из себя и, желая возбудить насильно в себе вдохновение, кричал, кривлялся, хлопал себя руками по бедрам, ломался, – и оттого становился еще нестерпимее. Иногда Мочалов бывал превосходен только в нескольких актах трагедии, иногда – в одном; иногда одно и то же место пьесы исполнял в различных спектаклях совершенно по-разному. Случалось, что и плохую пьесу «выносил» один на своих плечах.
И несмотря на то, что такая невыдержанная игра должна была производить тяжелое впечатление на зрителей, во всех отзывах современников признается за его игрой неотразимое обаяние тех мучительно-сладких и могущественных впечатлений, которые, по выражению Белинского, производила на них его страстная, простая и в высшей степени натуральная игра. Зритель под бременем волновавших его ощущений не успевал приходить в себя, чтобы ясно видеть оттенки игры и замечать неровности и небольшие промахи. Естественность игры Мочалова была необычайна для тогдашних понятий о драматическом искусстве. Заговорить в трагедии по-человечески среди декламирующего ансамбля было делом великого самобытного таланта, ибо этого пути Мочалову никто не указывал. Щепкину как комику было легче вступить на эту дорогу. Мочалов в качестве трагика был поставлен совершенно в другие условия. Ложноклассические приемы игры далеко еще не исчезли бесследно. Напыщенность и деланные эффекты считались тогда еще принадлежностью трагического таланта. Немудрено поэтому, что игра Мочалова казалась современным зрителям даже тривиальной, не соответствующей важности трагедии. Один из критиков замечает об игре Мочалова в роли Отелло (1828), что натуральность доходила у него до излишней простоты. «Но причиною сему, – замечает он, – как кажется, напыщенный тон других лиц и слог перевода; все декламируют по нотам, и странно слышать одного, говорящего по-человечески». Этим отчасти, вероятно, объяснялся сравнительный неуспех дебютов Мочалова в Петербурге, где привыкли к ложноклассической игре больше, чем в Москве. Впрочем, тут могла быть и другая причина: вдохновение не осеняло Мочалова, или, может быть, он «старался» играть хорошо – и играл плохо.