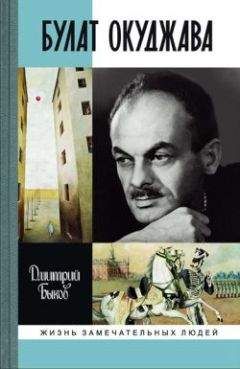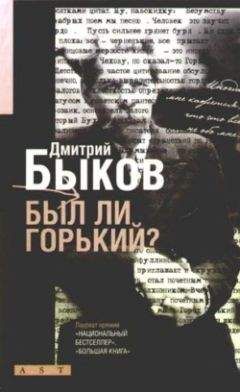«Метрополь» был задуман как своего рода «Тарусские страницы»-79: альманах неподцензурной литературы, в которой нет ничего антисоветского, но которая загнана в подполье перестраховщиками от литературы. Так говорилось в манифесте, и в самом деле сборник не содержал ни малейшей антисоветчины. Более того, все его участники легально работали в советской культуре: Фридрих Горенштейн – в качестве сценариста, чью прозу упорно отказывались печатать; Владимир Высоцкий – в качестве актера, чьи песни выходили на дисках-миньонах, но ни одно стихотворение не могло пробиться в официальную печать; Марк Розовский – в качестве режиссера, чьи драматические и прозаические опыты опять же обречены были на полулегальное существование… Альманах был составлен, подан для ознакомления в Союз писателей, не вызвал там никакого интереса – однако составители (Василий Аксенов, Евгений Попов и Виктор Ерофеев) были предупреждены, что в случае ухода книги в тамиздат их всех ожидают серьезные неприятности. Альманах ушел в Штаты и был срочно издан в «Ардисе», Попова и Ерофеева, только что принятых в союз, оперативно исключили оттуда, а Семен Липкин и его жена Инна Лиснянская в знак солидарности вышли сами. Искандеру, Ахмадулиной и Вознесенскому на разные сроки перекрыли публикации, а Аксенов уехал в Штаты преподавать и остался там (после публикации «Ожога» его предупредили, что если он останется – ему подстроят либо драку, либо автокатастрофу; ее, собственно, и подстроили на трассе под Казанью – но там он чудом среагировал и уцелел, решив, однако, опыта не повторять).
Разгром «Метрополя» послужил детонатором: «литературная Вандея», как назвал Евтушенко охранительный лагерь, ожила, волю почуя. Происходило нечто вроде антиоттепельного реванша 1963 года: все мало-мальски живое отвергалось редакциями, литературная жизнь замерла, на тогдашние журналы без слез не взглянешь. Некоторое оживление наблюдалось лишь в «Новом мире», который генсек Брежнев избрал для публикации своих мемуаров (написанных творческим коллективом во главе с приятелем Окуджавы, знаменитым «известинцем» Анатолием Аграновским). Этому изданию был позволен умеренный либерализм – там появились три текста, вызвавших долгие дискуссии: «Альтист Данилов» В. Орлова, «Самшитовый лес» М. Анчарова и «Уже написан Вертер» В. Катаева. Прочая литературная жизнь надолго заболотилась. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, что привело к международной изоляции СССР. Одним из ее последствий был бойкот Олимпиады-80 большинством стран Запада. Олимпиада была одним из главных позднесоветских проектов – всю вторую половину семидесятых о ней гудели пресса и телевидение, олимпийскую символику ляпали на всю советскую продукцию, Москва застраивалась олимпийскими объектами, задумывалось грандиозное шоу, демонстрирующее все преимущества социалистического образа жизни, – и первым предвестием скорого краха империи стал частичный провал этого громкого торжества. Сначала устроителям подгадил американский и европейский бойкот, а потом в праздничной, опустевшей Москве (проституток и бомжей выслали, школьников вывезли в лагеря) случилось по-настоящему главное событие года: 25 июля от острой сердечной недостаточности умер Высоцкий.
Его хоронила многотысячная толпа, очередь к театру на Таганке растянулась на километры, хотя официальная реакция свелась к крошечному квадратику извещения на последней полосе «Вечерней Москвы». Внезапно стало ясно, кто истинный властитель дум и с кем народ. Это всенародное прощание с кумиром стало внятной альтернативой раздутому спортивному празднику, превращенному в рекламу страны. Окуджава написал на смерть Высоцкого короткую статью по просьбе КСП и участвовал 26 декабря 1980 года в концерте его памяти в ДК «Прожектор». Выступали Ким, Татьяна и Сергей Никитины, Городницкий, Берковский, Дольский, Дулов, Егоров, Долина. Концерт был заявлен как обычный вечер авторской песни и разрешен только по этой причине. На нем Окуджава впервые спел песню «О Володе Высоцком» – стихи были написаны сразу после смерти Высоцкого, музыка сочинена незадолго перед концертом. Он объявил посвящение «Марине Владимировне Поляковой» – Марине Влади; в этом был некоторый вызов – тогда многие упрекали ее в том, что не спасла, не уберегла, а может, и подтолкнула к гибели. Окуджава считал долгом прекратить поиски виноватых и перекладывание ответственности – важнее было понять, кем был Высоцкий для миллионов. Окуджава знал и то, что многие противопоставляют его безвременно умершему барду – вот, этот себя тратил, рвал сердце и голос, ссорился с властью, воевал с косностью, а другие-то живы и даже признаны… Он не считал возможным реагировать на эти упреки – высказываемые людьми, которые вообще ничего стоящего не сделали; одним из проявлений его неизменного аристократизма была подчеркнутая корпоративность. Для него все поющие поэты были – при неизбежных разногласиях – единым двором: «Как наш двор ни обижали, он в классической поре».
С начала восьмидесятых его гастроли и выступления становятся регулярными. Значимым московским событием стал вечер в ЦДЛ 21 марта 1981 года, снятый на пленку по инициативе «Останкино» (тогда творческие встречи в Концертной студии «Останкино» были едва ли не самыми интересными программами на ТВ – страна встречалась со своими кумирами и могла им задавать вопросы в относительно неформальной обстановке). Окуджава пел много и с удовольствием, в зале оказались сплошные звезды театральной и кинематографической Москвы, ведущим был Эльдар Рязанов, публика смеялась немногословным окуджавовским шуткам и восторженно подпевала старым песням. 14 апреля вечер по многочисленным просьбам повторили, Окуджава охотно выступил снова, телевидение сняло обе встречи, но так и не выпустило программу.
31 октября 1981 года Юрий Любимов в последний раз показал на Таганке спектакль «Владимир Высоцкий», выпущенный 25 июля, к годовщине смерти поэта, и замаскированный под «вечер памяти». С июля по октябрь он показывал его несколько раз, разным комиссиям и добровольным защитникам из числа творческой интеллигенции, – никакие доводы не помогли, и спектакль запретили. Окуджава был на последнем прогоне с Борисом Можаевым и Юрием Карякиным, выступал в защиту спектакля – ничто не помогло, но Эйдельман записывает в дневнике: «Атмосфера бунта». Этот бунт, становящийся все более явным, – тоже знак эпохи: в сущности, еще в восемьдесят первом все было понятно. Непонятно было лишь, что придет на смену брежневскому режиму: Окуджава, по записям Эйдельмана и других его собеседников, смотрел на вещи мрачно и ждал ужесточения. В революцию сверху он не верил, а от революции снизу ждал прежде всего разгула дикости.