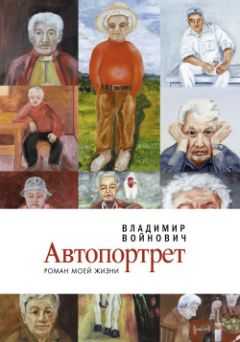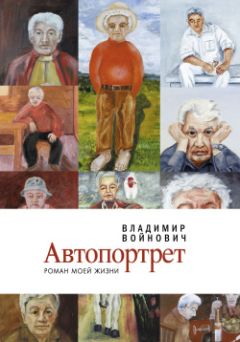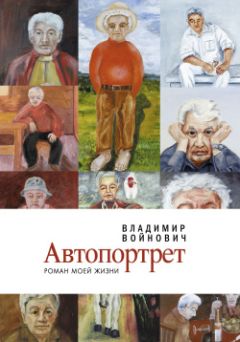— Я тебе советую, — продолжал он, — поезжай, посмотри. Может быть, пожив там, ты увидишь, что здесь тоже все не так плохо, как тебе кажется. Я понимаю, ты опасаешься, что тебя лишат гражданства, но мне кажется, что это не обязательно. Если ты там не будешь очень активно выступать против советской власти, это никому не будет нужно. Зачем лишать гражданства еще одного писателя? Это неразумно. Кроме того, я тебе скажу так: поверь мне, у нас есть еще немало людей, которые относятся к тебе просто очень хорошо.
Эту часть его речи я выслушал из вежливости. Существование отдельных терпимо ко мне относящихся кагэбэшников я еще мог бы себе представить, но в то, что меня не лишат гражданства, не верил. Хотя допускал, что это случится не сразу, и на том строил некоторые непрочные планы.
Прежде чем перейти к выдвижению заготовленных мною условий, я спросил Идашкина, как он думает, нельзя ли достичь примерно такого компромисса: я совсем уйду из общественной жизни и даже скроюсь из виду. Уеду куданибудь в провинцию. Не буду делать никаких заявлений. Буду писать, скажем, «Чонкина», не распространяя. Мне от государства ничего не нужно. Деньги у меня есть, всем ясно, что они есть, и даже ясно откуда. Так вот — пусть меня просто оставят в покое.
Правду сказать, я сам не был уверен, что хочу того, о чем говорю. Хотя, если бы власти на это пошли, я бы подумал о том же более обстоятельно. Но я и сам понимал, что раз уж там где-то решено меня выпроводить, то, значит, машина раскручена и останавливать ее или поворачивать в другую сторону вряд ли кто захочет. Что Идашкин тут же и подтвердил.
— Я, конечно, могу спросить, — сказал он. — Мне это ничего не стоит. Но я думаю, что твой вариант принят не будет. Он нереалистичен. Это как если бы, допустим, Израиль сказал: давайте остановимся на том, что есть. То, что нами захвачено, — наше, а остальное пусть останется как есть.
Тут я немного рассердился и сказал Идашкину, что его сравнение меня с государством, хотя бы и маленьким, может мне польстить, но аналогия некорректная. Мое отличие от Израиля и преимущество состоит в том, что захваченного мною я вернуть не могу, даже если бы захотел.
После чего я выдвинул свои требования, которые и вправду были вполне скромны.
— Я уеду только при условии, что мне не будут чиниться никакие препятствия. куда-то ходить и обивать пороги, добиваясь отъезда, я не буду, и это должно быть ясно.
— Не о чем спорить, — быстро сказал Идашкин. — Где надо, все оговорено, тебе осталось только обратиться в ОВИР, там тебя уже ждут, и все документы будут оформлены немедленно.
— Второе, — сказал я, — состав семьи…
— Ты можешь взять с собой всех родственников, каких только хочешь.
— Третье: библиотека, архивы…
— Об этом нечего говорить. Это твое имущество, оно должно быть с тобой.
— Четвертое поважнее. Моя кооперативная квартира должна быть до отъезда передана родителям моей жены, и там до отъезда же должен быть включен телефон.
Идашкин опять сделал озабоченное лицо.
— Ну, на этот последний вопрос я сам тебе ответить не могу. Но я спрошу. И думаю, что это будет решено положительно. Это не каприз, а нормальное резонное требование.
На этом мы разошлись.
Дома я рассказал все Ире. И вдруг она — это с ней бывало и раньше — объявляет, что она не уедет по крайней мере до Нового года.
— Почемуу!
— Я не могу бросить родителей. Они этого не переживут.
— А что ты думала, когда говорила, что согласна уехать?
— Я думала, что смогу, а теперь понимаю, что не смогу их бросить.
— Не бросай. Пусть едут с нами.
— Ты же знаешь, что они не поедут.
— Но ты понимаешь, что ставишь меня в дурацкое положение. Ты мне сказала, я согласился, я оговорил условия, а теперь… Ты понимаешь, что с КГБ в такие игры играть нельзя?
На другой день — опять Санин.
— Идашкин просит тебя еще на минутку забежать ко мне.
Забежал. Идашкин сияет.
— Все твои просьбы, или требования, или как ты хочешь, удовлетворены. Тебе идут полностью навстречу, но и к тебе тоже есть просьба…
— …уехать до Олимпийских игр?
Идашкин выразил восхищение моей догадливостью:
— Ты угадал.
Не могу даже передать, как мне хотелось немедленно согласиться. Если б зависело только от меня, я бы взял себе несколько дней съездить к отцу и сестре, проститься со старшими детьми и все, и долой.
Надоело! С тех пор как я решил уехать, все время думал: только бы поскорей! Все раздражало. Нет, не только рожи на Мавзолее, не только бегущие по пятам кагэбэшники и перебегающие на другую сторону улицы вчерашние полуприятели. Но и все остальные люди — водители автомобилей, милиционеры, продавцы, покупатели, писатели и прохожие — надоели! Я знаю, вот сейчас на их глазах когонибудь схватят, будут тащить, вязать, убивать, и можешь сколько угодно вопить, они не услышат. Идущий куда-то народ будет дальше струиться мимо, обтекая место насилия, как вода обтекает камень.
В те дни одной старухе очень не повезло столкнуться со мной в темном месте. Ира послала меня ранним утром за молоком, я шел в коротком полушубке и спортивных брюках, заправленных в сапоги. И в проходном дворе эта убогая, несмотря на темноту, обратила внимание на мою одежду, остановилась и, сердитым пальцем тыча в мою нижнюю часть: «Это надо же, чего носют!» — сказала с таким осуждением, будто я шел вообще без штанов.
Я сначала оторопел, остановился, оглядел, что на мне ее так возмутило. И вдруг вся моя злоба на партию, правительство, Союз писателей, КГБ, портреты вождей, кумачовые полотна, Брежнева, Сталина, Ленина и мавзолей Ленина вылилась на эту жалкую старую дуру. Я на нее набросился, наговорил ей всяких грубостей (не пересекая, правда, границ нормативной лексики) и агрессией своей так напугал, что она молча кинулась наутек, и надо заметить, что для ее преклонных лет оказалась довольно прыткой.
Вполне нормальное приглашение
Некоторые строгие люди уличали меня в том, что я уезжал добровольно. То есть шел своими ногами в ОВИР, писал заявление и заполнял другие бумаги. Добровольность же моя была примерно как у человека, который своими руками достает из кармана и отдает бумажник грабителю, приставившему ему к горлу нож.
Среди строгих критиков я встречал немало таких, которые утверждали, что они бы никогда и ни при каких обстоятельствах не согласились. Это была ничего не стоящая болтовня. Я знал только одного человека, который не принял ультиматума КГБ и за свое решение заплатил жизнью. Это был Анатолий Марченко, до которого любому из моих критиков было далековато.