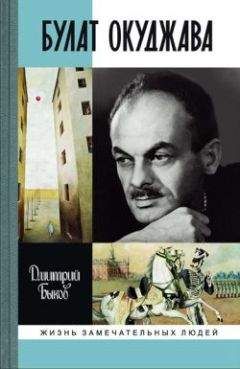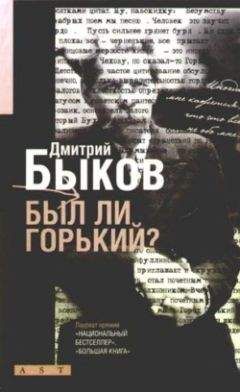Вечер состоялся бы и раньше, но несколько раз переносился из-за болезни Окуджавы: он был сильно простужен и с годами выкарабкивался из этих простуд все трудней. Не выздоровел он и к середине июня – явился в «Горбушку» с температурой под 38, но держался безупречно. Вечер этот, проходивший в переполненном зале, рассчитанном на 1 300 мест, запомнился всем его участникам как праздник любви и солидарности. Михаил Жванецкий, подъехавший к концу вечера и выступавший одним из последних, в закулисном застолье сказал Окуджаве: «Хочу выпить за то, что ты все это получил при жизни». Вечер вел Юлий Ким, клетчатой ковбойкой подчеркнувший принципиальную неофициальность происходящего. Пели актеры Валентин Никулин и Владимир Качан, барды Вадим Егоров, Александр Городницкий, Виктор Берковский, непременные Никитины, не обошлось, конечно, и без поздравления от Кима, после которого на сцену поднялся сам Окуджава. Начав петь «Музыканта», он услышал подключившийся к аккомпанементу рояль, а потом скрипку: остановился в недоумении, оглянулся и увидел в глубине сцены сидящего за роялем двадцатилетнего младшего сына, а рядом – скрипача, его товарища по консерватории.
В финале вечера весь зал пел «Возьмемся за руки, друзья». Окуджава стоял на сцене, держа за руки устроителей концерта. На него водрузили венок из натурального лавра благородного, доставленный каэспэшниками Керчи. За кулисами торжество продолжилось. Натан Эйдельман говорил:
– Я вообще думал, что происходит интересный литературоведческий факт: возрастает роль личности писателя в литературе! Это всегда играло какую-то роль, но считалось так: лишь бы хорошо писал, а там.
– А теперь пусть плохо, лишь бы жил! – крикнул Окуджава с места.
Между тем мысль Эйдельмана весьма важна, хоть юбиляр и попытался свести все на шутку. В самом деле, в восьмидесятые годы жизненное поведение писателя было едва ли не важней его литературной одаренности. Окуджава выстроил личную стратегию, и результаты ее на празднике в Филях стали очевидны. Составляющие этой стратегии не так просты, и мы попробуем их перечислить. Во-первых, он, по неоднократным своим уверениям, старался делать только то, что доставляло ему удовольствие. Разумеется, слушатели знали, какую жизнь он прожил, и могли оценить иронию человека, до тридцати лет жившего в навязанных и крайне тяжелых обстоятельствах, да и потом неоднократно битого. Но умение не жаловаться, держать спину, безукоризненно выглядеть в любых обстоятельствах, есть сосиски, как деликатес, с достоинством и элегантностью носить хоть ковбойку – всё это и есть внешние признаки аристократизма, в который искусство хорошо выглядеть входит непременной составляющей. Он часто называл неприхотливость одной из самых отталкивающих русских черт, говорил о гипертрофированном терпении народа, ничего общего не имеющем с терпимостью: как раз напротив, его особенно оскорбляло сочетание нетерпимости к чужим мнениям и привычкам с бесконечным и унизительным терпением во всем, что касалось собственных унижений. Непривередливость – черта советского положительного героя – раздражала его до бешенства: «Если я пью чай, это должен быть хорошо заваренный чай. Иначе – лучше пить воду».
Вторая составляющая его человеческого обаяния – это уже не жизненная стратегия, а фундаментальная черта дара, – заключается в демократичном и ненавязчивом умении создать чувство общности, родства, снять барьеры, дотянуть аудиторию до себя и включить в свой круг; а в этом кругу – и Александр Сергеевич, и Борис Леонидович, и Эрнст Теодор Амадей. Он всячески избегал этого в личном общении, но на эстраде – да и при чтении его текстов с листа, когда автор отсутствует, а домысливается лишь интонация, – достигал этой общности мгновенно: работала целая система намеков, паролей, указаний на роднящие обстоятельства, лукавых умолчаний, точных ассоциаций. Каждый узнавал в Окуджаве себя, и потому столь многих разочаровывал Окуджава-человек, в личном общении ставивший меж собой и собеседником строгие барьеры. Однако ему прощалось и это – прекрасное не должно быть слишком доступно. То, чего много, – не ценят. Он любил повторять: «Хорошего много не бывает». Это сочетание – чувство интимной, живой близости с его лирическим героем и неизменная строгая дистанция с автором – хорошо знакомо нам опять-таки по блоковской биографии: чуть не каждая курсистка в России считала его тайным, суженым ей рыцарем, но в жизни он был, по собственному определению, «холоден, замкнут и сух». «Не для ласковых дружб я выковывал дух, не для дружб я боролся с судьбой». Эта модель поведения – в самом деле женская: притягивать, влечь – и осаживать, отталкивать при малейшей попытке сближения. В стихах принадлежать всем – в жизни никому. Вероятно, он не выстраивал этого поведения сознательно – так вышло: молодой Окуджава, по его собственным язвительным воспоминаниям, откликался на все приглашения, благодарил за все комплименты, мог проспорить с друзьями ночь напролет. но и тут, кажется, преувеличивал. Взвешивать каждое слово, больше молчать, чем говорить, он научился с 1937 года, если не раньше.
Так что замечание Эйдельмана было глубоким и своевременным: литературное и человеческое поведение Окуджавы было значимым феноменом позднесоветской культуры, наряду с песнями и романами. Он продолжал:
– Вот, Булат, ты написал одиннадцать томов, которые тебе поднесли. Это правильно. Дай бог им побольше тиражу, конечно. Но я считаю, что ты написал еще несколько томов: каждый писатель пишет свою жизнь. Это есть его большой вклад в культуру. Скажем, ну, жизнь Пушкина – это столь же прелестное сочинение, как многие его сочинения. Просто дополнение к полному собранию, а может, даже существенная часть. Поэтому есть у нас подозрение, что ты и эти тома написал хорошо. Это не значит, что ты – человек идеальный, мы знаем, что у тебя есть недостатки, да.
– Не знаю, не знаю, – насмешливо протянул Окуджава.
– Мы знаем, что ты бываешь суров. Мы знаем, что к тебе как влезешь, так и слезешь, если особенно с нахрапу. И – за продолжение, максимальное, длинное, прекрасное, этой вот сложной соцреалистической многотомной диорамы! Будь здоров!
Регина Гринберг (1927–2005), главный режиссер знаменитого Ивановского молодежного театра, задолго до Таганки выпускавшая превосходные поэтические спектакли, вручила Окуджаве его портрет, а актеры ее театра спели юбилейный парафраз «Надписи на камне»:
Пускай моя любовь как мир стара —
Ей никогда не быть кривой и ржавой.
Наверно, есть другие фраера,
Но по пути нам вышло с Окуджавой.
В конце вечера Окуджава предложил тост за КСП, сказав, что ни от писателей, ни от кинематографистов никогда не дождался бы такого вечера. Недоброжелатели, столь долго раздувавшие миф о враждебности мастера и вдохновленного им движения, были посрамлены, а устроители, зрители и гости – совершенно счастливы. Это была высшая точка карьеры Окуджавы – последовавшее за ней государственное признание уже ничего не прибавило: в юбилейный год он услышал благодарность сформированного им поколения.