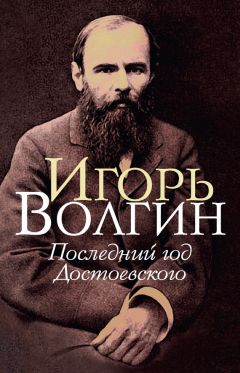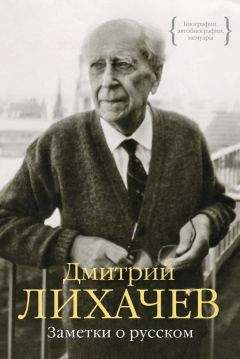Заметим, что главным оппонентом Достоевского выступает не столько сам Елисеев, сколько его экспансивная и, как сейчас бы выразились, боевитая супруга.
В воспоминаниях Суворина есть одно глухое и до сих пор не разгаданное указание. Автор воспоминаний передаёт слова Достоевского о его «литературных врагах»: «Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся»[231].
Подозреваем, что не названный Сувориным по имени Z – всё тот же Г. З. Елисеев. И вот почему.
Во-первых, после написания «Бесов» Достоевский бывал за границей один, без Анны Григорьевны. В своих письмах к ней он подробнейшим образом излагает все детали своей небогатой происшествиями жизни. И уж, конечно, такое событие, как встреча с «известным писателем», не осталось бы неотмеченным.
Между тем в эпистолярных циклах Достоевского, связанных с его пребыванием за границей (после 1873 года), кроме Елисеева (а он по тем временам – довольно крупная литературная фигура) не упоминается ни одного писательского имени, которое могло бы быть подставлено на место таинственного Z.
И во-вторых. Выражение Достоевского «чуть не отвернулся» – как раз подходит к Елисееву (вернее, к Елисеевым). Ведь они, с одной стороны, «сами лезут и встречаются поминутно», но с другой – «сторонятся», «третируют… как бы наблюдая осторожность» и т. д. В разговоре с Сувориным такое двусмысленное (или кажущееся Достоевскому двусмысленным) поведение могло быть обобщено: «чуть не отвернулся».
И всё-таки все эти косвенные «улики» не дают достаточных оснований для окончательного приговора.
Так кто же желает «уничтожить народ»?
Однако существует ещё один источник, на который, если мы не ошибаемся, вообще отсутствуют ссылки в работах о Достоевском. Речь идёт о записках забытого ныне литератора графа де Воллана. Автор записок следующим образом передаёт один из своих разговоров с писателем.
«Заговорили сначала о противоречии, в которое впали наши прогрессисты, отрицая народное славянское движение. «Они не любят народ, – сказал Достоевский, – они отрицают его и готовы уничтожить». Всё это он говорил шёпотом, таинственно, как будто в комнате находился больной. «Мы уничтожим народ, – говорит редактор «Отечественных записок» (?)»[232].
Немыслимо представить, чтобы кто-либо из редакторов «Отечественных записок» (Салтыков, Михайловский или Елисеев) всерьёз высказал подобную глупость (тем более вопиющую в устах руководителей народнического журнала). Вместе с тем слова, столь поразившие Достоевского, очевидно, были произнесены. Но кем и в каком контексте?
Конечно, подозрение прежде всего падает на Елисеевых – на них обоих, хотя она, понятное дело, вовсе не редактор «Отечественных записок». Но, как явствует из писем Достоевского, именно Екатерина Павловна выступает в качестве главной «ударной силы», именно она затевает идейные споры и против неё в первую очередь направлен его раздражительный гнев[233].
Можно предположить, что именно Елисеева в полемическом задоре «брякнула» пресловутую фразу – возможно, в присутствии мужа. Позднее у Достоевского мог произойти сдвиг памяти – и фраза была переадресована «самому» Елисееву. (Это тем вероятнее, что, как отмечалось в его письме, «она повторяет только мысли своего мужа».)
Возможен и иной вариант. А именно – что фраза была всё-таки произнесена Г. З. Елисеевым – разумеется, в виде не очень удачной шутки. Конечно, подобная – «зайцевского типа» – острота не имела шансов понравиться Достоевскому. Однако тогда он воспринял её именно как шутку. Но время могло сместить акценты – забылся иронический контекст, осталась одна «голая мысль», лишённая сопутствующей интонации.
Характерно, что именно как шутку расценили этот «анекдот» современники. «Анекдот, может быть, верен, – откликнулся «Вестник Европы», – как верно то, что есть на свете очень глупые люди; нам сомнительно одно, чтобы это мог быть “представитель” интеллигенции… Признаемся, нам сомнительно, чтобы даже шушера могла высказать мысль об “уничтожении народа”. Не было ли это сказано г. Достоевскому на смех?»
Было рискованно так шутить с Достоевским. Но ещё неосмотрительнее было приводить эту шутку в печати. «Словом, уши вянут»[234], – заключал «Вестник Европы».
Для чего же понадобилось обнародовать этот «анекдот» автору «Дневника писателя»? Он оставляет под подозрением внутренние мотивы русского либерального движения: оно, по его мнению, в первую очередь преследует свои собственные, узкокорпоративные цели. И в иных случаях для достижения этих целей народ мог бы представлять помеху, пожалуй, не меньшую, чем самодержавие. Тезис об «уничтожении народа» обретает в устах Достоевского некий художественно-метафорический смысл – как предельное заострение ситуации (и в этом отношении он равнозначен таким собирательным художественным формулам, как «кровь по совести», «человек из бумажки», «возвращение билета» и т. д.).
Разумеется, никто из участников тургеневского обеда не позволил бы себе сомнительных острот насчёт «уничтожения народа». Однако мысль о его – хотя бы временном, «до срока» – устранении из будущей политической жизни (мысль, в которой никто не признался бы публично) иным из них не показалась бы невозможной.
Когда Павел Васильевич Анненков говорит, что Достоевский захотел выставить Тургенева «пунцовым драконом», он не вполне прав. Здесь скорее присутствовало стремление показать, что никакого «дракона», собственно, нет, а есть старые, хорошо известные либеральные пожелания.
Сама речь Тургенева давала основание для подобных оценок. Предлагаемая им программа была не только лояльна по отношению к существующей власти, но – по своему «радикализму» – просто несоизмерима с глобальными утопиями Достоевского.
«Правительственные силы, – сказал Тургенев, – которые заправляют и должны заправлять судьбами нашего отечества, могут ещё скорее и точнее, чем мы сами, оценить всё значение и весь смысл настоящего, – скажу прямо: исторического мгновения. От них, от этих сил зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное единодушное служение России, – той России, какою её создала история, создало то прошедшее, к которому должно правильно и мирно примкнуть будущее»[235].
Разумеется, в этих словах не было ничего «пунцового» (скорее, Достоевского могло раздражить упоминание о «правительственных силах», под которыми можно было бы разуметь не только верховную власть, но и правящую бюрократию).
И уж, конечно, то, о чём говорил Тургенев, не имело ничего общего с программой и направлением «Отечественных записок»: там никогда не считали, что именно «правительственные силы… должны заправлять судьбами нашего отечества».
Но для Достоевского и либералы, и демократы одним миром мазаны. В его представлении «профессора» и «семинаристы» суть выкормыши одной идейной стихии, и главное, что их объединяет, – это полнейшее непонимание сокровенной (нравственной) сути народа. Русский интеллигентный слой, по его мнению, не есть народная интеллигенция: отсюда сугубое недоверие к тем конституционным формам, при которых парламентские учреждения могут обратиться в органы корпоративного представительства.
«Заговор, – сказано в последней тетради. – Научатся у лаптей, как вести себя, говоря царю правду, тогда как теперь… в заговор против народа (обратится ваше увенчание здания)»[236].
Интеллигенция должна учиться «у лаптей», как вести себя с властью. Точнее, все сословия должны пройти школу народного представительства: социальным педагогом в подобной школе должен быть сам народ.
Последнее слово
10 марта 1881 года – через несколько дней после убийства народовольцами Александра II – Исполнительный комитет «Народной воли» обратился с письмом к новому императору.
«Заявляем торжественно, перед лицом родной страны и всего мира, – говорилось в письме Александру III, – что наша партия с своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания…»[237]
Итак, «Народная воля» полагалась на волю Народного собрания: это программа-минимум революционной партии.
Но нечто схожее предлагает и Достоевский: это тоже его программа-минимум.
С одной лишь разницей.
Для авторов письма Александру III созыв Народного собрания явился бы началом русской революции (или, во всяком случае, мощного революционного процесса). Для Достоевского такой созыв означает её конец.
«И так плодотворно будет обучение, – записывает он, – сколько перебегут, как осиротеют доктринёры, вся молодёжь от них отшатнётся, даже взрыватели отшатнутся и примкнут к русской правде»[238].