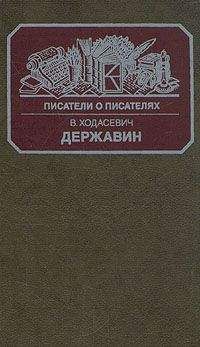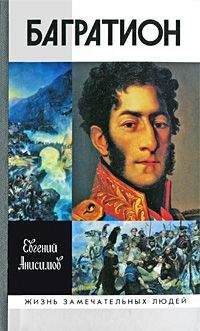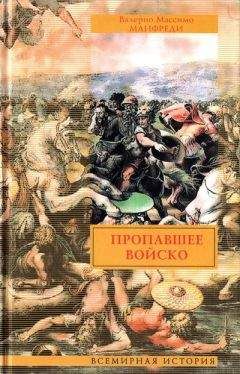Правда, было во всем этом и нечто утешительное для князя Петра. Туча грозной ответственности, висевшая над ним с самого начала войны, наконец рассеивалась. При новом положении вещей он освобождался от мучительнейших опасений, которые должны были теперь с двойной силой угнетать Барклая. Возникала возможность решительно требовать того, что Багратион признавал пользой и необходимостью: генерального сражения за Смоленск. Поэтому-то желанное наступление на французов он и начал прямо с атаки Барклая.
- Я не в претензии на вас, Михаиле Богданыч, - говорил он, - вы министр, я ваш субалтерн. Но ретироваться далее - трудно и пагубно. Люди духу лишаются. Субординация приходит в расстройку. Что за прекрасная была у нас армия! И вот - истощилась. Девятнадцать дней по пескам, по жаре, на форсированных маршах. Лошади пристали. Кругом - враг. Куда идем? Зачем? Согласен: до сей поры весьма были мудры ваши маневры. Очень! Но пришел день вожделенный, - мы соединились, вкупе стоим, и Смоленск - за нами. Ныне другой маневр надобен, не столь, быть может, и мудрый... попроще...
- Какой же? - тихо спросил Барклай.
- Искать противника и бить его, не допуская к Смоленску! Я не в претензии... Повелевайте! Однако же изнурять без конца армию позволить не могу. Поручите еще кому, а меня увольте! Уж лучше я зипун надену..., В сюртуке пойду - и баста! Таков сказ мой по чести и истине!
Барклай внимательно слушал эту горячую речь. Но лицо его продолжало оставаться неподвижным и от непроницаемости своей казалось почти мертвым. В душе он относился к Багратиону несочувственно, как и ко всем людям, которых считал по степени образования ниже себя, а по способностям - выше. Он мало доверял своей собственной талантливости и, с болезненной скрытностью пряча от окружавших это недоверие, признавал таланты конкурентов неохотно и с трудом. Скромный и сдержанный, он никому не прощал откровенной самонадеянности. Естественно, что порывистая и шумливая натура Багратиона была ему всегда несколько неприятна. Внешне это проявлялось в форме вежливой отчужденности. Пальцы здоровой руки Барклая отчетливо отбивали марш по зеленому сукну стола, за которым он сидел лицом к лицу со своим гостем. Голова была опущена.
- Я вас спас, Михаила Богданыч! - с назойливой резкостью звучал в его ушах голос Багратиона. - Тем спас, что пробивался к вам, когда вы от меня уходили... И впредь, коли понадобится, спасать буду. Но с тем, однако, чтобы и вы не бездействовали. Иного хода в делах не понимаю и понимать не хочу. Видно, не учен я, а может, и глуп перед вами! На войска же русские жаль мне смотреть... Оттого и говорю...
В крайнем раздражении он повторил угрозу:
- Уж лучше зипун надеть! И - баста!
Барклай пожал плечами. По свойствам своего ума он умел при всяком стечении и повороте обстоятельств угадывать результат дела просто, без особого напряжения мысли, но верно и точно. Он никогда не воспламенялся во время спора, не развивал доказательств, а говорил только: "Из этого вышло то-то, а из этого должно получиться то-то". И не любил лишних слов. Но разговор, с Багратионом требовал именно доказательств и ненужных слов. Что делать?
- Не постигну, любезный князь, в чем, собственно, обвинять меня изволите, - медленно заговорил он. - Маневры мои были не мудрей и не ученей ваших и столь же прямой необходимостью вызваны. Признать готов, что операция ваша у Могилева, когда тринадцатого июля мимо обманутого маршала Даву проследовали вы с армией и перешли через Днепр, а он лишь четырнадцатого о том узнал и шестнадцатого только на Оршу двинулся, - славного военного такту был прием. И что без дальнейших препятствий достигли вы семнадцатого в Мстиславль - также к полководческому знанию вашему полностью относится. Но будьте справедливы, любезный князь, войдите и в мое положение. Еще двенадцатого Бонапарт наступал от Бешенковичей на Витебск, полагая, что я путь к вам хочу проложить через Оршу. И впрямь сбирался я тогда идти на Оршу, чтобы хоть с этой стороны сблизиться с вами и закрыть перед Бонапартом Смоленск. О намерении своем я и вам сообщал...
Он незаметно взглянул на Багратиона. Глаза князя Петра пылали. Рот его был раскрыт для самых решительных возражений.
Поэтому Барклай, не останавливаясь, продолжал говорить:
- Не забудьте и того, что тринадцатого Бонапарт знал уже об отступлении генерала Раевского из-под Салтановки. Оттого действия его против меня с правого фланга совершенно были развязаны. Тогда дал я авангарду его бой. Тринадцатого и четырнадцатого войска мои дрались с Мюратом у Островны и задержали наступление его на сутки. Однако бой этот показал мне ясно, что двигаться Первой армии надо со всей поспешностью не на Оршу, а на Смоленск, то есть глубже и дальше...
Багратион язвительно засмеялся.
- Зачем же, коли так, звали вы меня, ваше высокопревосходительство, для соединения в Оршу? Разве такие фокус-покусы почесться возможными могут?
- Это не фокус-покус, ваше сиятельство, - все медленнее процеживая слова, тихо сказал Барклай, - отнюдь нет. Чтобы отвлечь от вас Даву, я готов был бой и у Витебска принять. Моя ли вина, что позиции тамошние до крайности негодны? Кроме того, пятнадцатого получилось от вас известие о... неудаче генерала Раевского под Могилевом. Прямо скажу: понял я это, как если бы кто освободил меня от необходимости драться у Витебска на позиции дурной. Уж не надобно драться мне было, ибо шли вы благополучно к Смоленску. Потому, обсудив на военном совете, я и двинулся тремя колоннами через Поречье и Рудню на Смоленск. Подобно как вы Даву обманули, так я - Бонапарта. После боя у Островны он никак сомневаться не мог, что под Витебском генеральное сражение предстоит, и уже к шестнадцатому войска стягивать стал. Но я исчез с внезапностью. Что было делать Бонапарту? Он корпуса свои для отдыха остановил: принца Евгения в Сураже и Велиже, Нансути в Поречье, Нея в Лиозне, Мюрата в Рудне, Груши в Бабнновичах и Даву в Дубровке. Но ведь, князь мой любезнейший, все это не для моей лишь, а для общей нашей пользы свершилось... Не так ли?
Багратион быстро провел рукой по высокому гребню крутых своих кудрей. Действительно, многое из того, что казалось ему до сих пор необъяснимым и удручающе странным в маневрах Первой армии, вдруг приобрело теперь простой и ясный смысл. Многое... Но не все!
- Позвольте, Михаиле Богданыч! А почему же не пошли вы на соединение со мной в Горки? И вам и мне восемнадцатого было бы то и ближе и удобнее прочего. Почему прямо на Смоленск двинулись, хотя можно было бы, в Горках совокупясь, общей силой заградить французам путь на Смоленск?
Новое подозрение родилось, и живая тень гнева опять набежала на бледное лицо князя Петра.