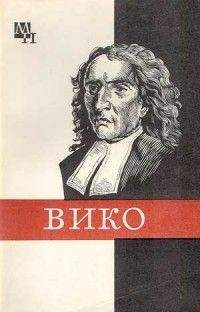И все же это глубоко ошибочная точка зрения. Время войны было единым целым для всех ее участников на фронте и в тылу, для всего народа, на плечи которого свалилось это тягчайшее испытание. 22 июня 1941 года, начавшееся бомбардировкой наших городов, — это не просто хронологический межевой столб, установленный историками, чтобы не запутаться в необозримом море исторических фактов, нет, это событие было реальным началом нового периода отечественной истории, ибо оно перевернуло жизнь народа. Конечно, действительная история гораздо богаче, сложнее, хаотичнее, чем история писаная и, тем более, история, запечатленная художником, так как копия никогда не может полностью совпасть с оригиналом, а всякое отражение, разъяснял В. И. Ленин, всегда есть упрощение и огрубление действительности.
Почему же, однако, Рокантен так остро переживает монотонную скуку своего бытия и даже считает эту скуку обнаружением мнимого абсурда реального существования?
Подобное умонастроение с неповторимым совершенством описал наш Пушкин в стихотворении, помеченном днем его рождения — 26 мая 1828 года. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал?.. Цели нет передо мною: сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум».
В трех строфах пушкинского стихотворения заключено все необходимое для понимания психологического генезиса экзистенциализма, для понимания настроения, которое выражает себя в этом типе философствования. Только, ради бога, не нужно думать, будто мы Пушкину приписываем экзистенциализм, до этого еще никто, кажется, не додумался, хотя ретивые пропагандисты этой философии имеют под рукой длинный список литературных знаменитостей, призванный подтвердить «всеобщность» экзистенциального мышления. Нет, у нас речь о другом.
Для Пушкина — это не мировоззрение, не жизненное credo, а выражение мимолетного (мимолетного именно для него) настроения, когда, говоря словами современного уже поэта, «подступает отчаянье», а вслед за ним апатия и безразличие к любому делу жизни. Усталость, разочарование и желание убедить себя в неизбежности их, чтоб меньше ранили невзгоды, — вот элементы этого настроения. Нужно ли говорить, что у Пушкина (как и у каждого почти человека) было достаточно оснований испытывать такие чувства.
Но в самом же стихотворении содержится опровержение «печальных истин», в нем запечатленных. Нет, не напрасный, не случайный дар эта жизнь, если родились на свет эти строки и много иных, которыми вот уже почти полтора столетия не перестают восхищаться десятки миллионов. Прописная, но очень глубокая и верная истина: настоящее искусство, подлинная поэзия всегда учат любви к жизни, даже тогда, когда касаются самых трагических ее черт.
У Рокантена «цели нет», «празден ум», и потому он поражен отвращением к жизни. Беда только, что настроение свое он проецирует на мир и находит в нем самом абсурд, отчего еще сильнее заболевает своей «метафизической болезнью» и не чает, как выздороветь. И вот случай приводит его в кафе, он слушает граммофонную запись песни, которую сочинил американский еврей, а поет негритянка, и под слова припева: «В один из этих дней ты будешь, милая, скучать обо мне» — на него снова снисходит озарение: «И я тоже, я хотел быть. Это все, чего я хотел, это подводит итог моей жизни: в основе всех моих стремлений, на первый взгляд противоречивых, я нахожу одно и то же желание: изгнать существование из себя, освободить сменяющиеся мгновенья от жира, налипшего на них, выжать их досуха, очистить, закалить себя, чтоб наконец извлечь ясный, острый звук из саксофона… Она поет. Итак, двое спасены: Еврей и Негритянка. …Они мне немного напоминают мертвых, немного — героев романа; они отмылись от греха существования. Не полностью, конечно, но настолько, насколько вообще может человек… Негритянка поет. Значит, можно оправдать свое существование?… Не мог ли бы и я попробовать? — Конечно, не в сочинении музыки, но в другом материале. Это могла бы быть книга»[39].
Здесь резюмированы не только заветные мысли героя под занавес романа, но и важнейшие категории-символы сартровской философии. Существование есть «грех» и падение, «вырождение», как утверждает Рокантен в другом месте. Излюбленный Сартром символ существования — «слизь», «слякоть», «клейкость», «вязкость» и т. д. Следуя методу «материального воображения», разработанному Г. Башларом применительно к анализу поэтического творчества, один из исследователей творчества Сартра, Р. Шампиньи, предложил свое объяснение такой символики существования. Существование (человеческая реальность) в представлении Сартра расшифровывается как соединение двух «первоэлементов», присутствовавших еще в мифологии, а затем перекочевавших в ионийскую натурфилософию, а далее — в физику Аристотеля: твердого и жидкого, т. е. «земли» и «воды»[40].
Что касается второго — «влажного» — элемента, то сам Сартр без обиняков высказался на одной из последних страниц своего трактата: «Вода — это символ сознания» [33]. В то же время его характеристика бытия-в-себе (абсолютная тождественность, непроницаемость, бескачественность и т. д.) напоминает мифологему земли. Как вода течет по земле, так и сознание принуждено навечно быть скрепленным с бытием-в-себе. Текучесть воды есть наглядный образ трансценденции сознания и экстатической природы времени. Желание плотское сам Сартр уподобляет взбаламученной воде: «Взбаламученная вода все еще вода; она сохраняет ее текучесть и ее существенные характеристики; но ее прозрачность „встревожена“ мистическим присутствием… которое проявляется как сгущение воды из себя самой» [34]. Отсюда и часто встречающийся у нашего автора символ «плоти» (в отличие от тела), олицетворение «вязкости» существования в результате смешения твердой и влажной «натур».
Шампиньи отмечает почти полное отсутствие в образной структуре сартровской философии «динамических элементов»: «воздуха» и особенно «огня». Это служит для него основанием провести ряд очень интересных сопоставлений, одно из них мы здесь приведем. «Воображение Сартра и Хайдеггера иллюстрирует два аспекта романтизма. Воображение Хайдеггера напоминает об оптимистичном романтизме. Сцена — сельская местность. Человек — „пастух бытия“. Хайдеггер пишет „Лесные тропы“, Сартр пишет „При закрытых дверях“. Воображение Сартра урбанистично, как и у Бодлера… Хайдеггер говорит о „доме“ бытия. Это космическое жилище, открытое четырем элементам, в особенности воздуху и свету. „Ад“, сцена в пьесе „При закрытых дверях“, — просто комната, какую можно найти во многих парижских квартирах… Любимый поэт Хайдеггера — Гельдерлин. У По, у Бодлера мир становится тяжелым, непрозрачным. „Природа“ больше уже не превозносится. Космическое тело вырождается в плоть»[41] и т. д.