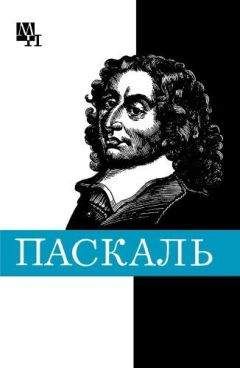что нам нравится (потому что мы это понимаем), и приписывал большую важность совершенно бесполезным “мистическим” рассуждениям о судьбе человека, о будущей жизни. Поэтому надо брать из него не то, что он сам считал важным, а то, что мы можем понять и что нам нравится”.
И толпа рада: то она не понимала, ей надо было усилие, чтобы подняться до той высоты, на которую ее хотел поднять Паскаль, а тут все совершенно просто. Паскаль открыл закон, по которому делают насосы. Насосы очень полезны, и это очень хорошо; а все то, что он там говорит о Боге, бессмертии, все это пустяки, потому что он верил в Троицу, Библию. Нам не нужно усилия, чтобы подниматься до него; напротив, мы с высоты своей нормальности можем покровительственно и снисходительно признавать его заслуги, несмотря на его ненормальность.
Паскаль показывает людям, что люди без религии – или животные, или сумасшедшие, и тыкает их носом в их безобразие и безумие, показывает им, что никакая наука не может заменить религию. Но Паскаль верил в Бога, в Троицу, в Библию, и потому для них дело решенное, что и то, что он им говорил о безумии их жизни и тщете науки, – неправда. Та самая наука, та самая суета жизни, то самое безумие, которое так неотразимо выяснено им, эта самая суета, эта самая наука, это самое безумие они считают настоящей жизнью, истиной, а рассуждения Паскаля считают плодом его болезненной ненормальности. Им нельзя не признать силы мысли и слова этого человека, и они причисляют его к классикам, но содержание его книги не нужно им. Им кажется, что они стоят неизмеримо выше того высшего душевного состояния религиозного сознания, до которого только может достигнуть человек и на котором стоит Паскаль, и потому значение удивительной книги безнадежно скрыто от них.
Да, ничто так не зловредно, не пагубно для истинного прогресса человечества, как эти ловко обставленные всякого рода современными украшениями рассуждения людей qui croyent savoir (которые думают, что знают) и которые, по мнению Паскаля, bouleversent le monde (мутят мир).
Но свет и во тьме светит, и есть люди, которые, не разделяя веры Паскаля в католичество, но понимая то, что он, несмотря на свой великий ум, мог верить в католичество (предпочитая верить в него, чем ни во что не верить), понимают и все значение его удивительной книги, неотразимо доказывающей людям необходимость веры, невозможность человеческой жизни без веры, т. е. без определенного, твердого отношения человека к миру и Началу его.
И поняв это, люди не могут не найти и тех, соответствующих степени их нравственного и умственного развития, ответов веры на вопросы, поставленные Паскалем.
В этом его великая заслуга.
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ. ЧТО СДЕЛАЛ ПАСКАЛЬ?
Чудо Св. Терна внушило Паскалю замысел того великого дела, которому решил он посвятить весь уже недолгий, как он предчувствовал, остаток жизни. Дело это он сам называет “Защитой христианства”, Апологией, а люди назовут его Мыслями.
После чуда он придумал изображение для своей печати: два человеческих глаза, окруженных терновым венцом, с надписью – “Scio cui credidi. Знаю, кому верю”. Смысл изображения тот, что мучившая его всю жизнь Борьба Веры и Знания кончилась: эти два противоположных начала соединились в третьем высшем – в Любви. Главным источником Мыслей и будет это соединение.
В 1659 году, за три года до смерти, Паскаль в обществе друзей своих, вероятно, “господ Пор-Руаяля”, изложил замысел Апологии. Речь его длилась два-три часа. “Все присутствовавшие на этом собрании говорили, что никогда не слышали ничего более прекрасного, сильного, трогательного и убедительного”,– вспоминает один из слушателей, племянник Паскаля Этьен Перье.
Вскоре после этой речи Паскаль заболел и, хотя в первое время болезни не лежал в постели и даже выходил из дому, чувствовал себя так плохо, что врачи запретили ему всякий умственный труд. Близкие отнимали у него и прятали книги и не давали ему писать, ни даже говорить ни о чем, что требовало умственного напряжения. Но вынужденное внешнее бездействие только усиливало внутреннюю работу ума. Мысли приходили к нему сами собой, и он “записывал их на первых попадавшихся ему под руку клочках бумаги в немногих словах или даже полусловах”. “Часто возвращался он с прогулки домой с буквами, написанными на ногтях иглою: буквы эти напоминали ему разные мысли, которые он мог бы забыть, так что этот великий человек возвращался домой, как отягченная медом пчела”, – вспоминает Пьер Николь.
“Память у Паскаля была удивительная”, – по свидетельству того же Николя. “Я никогда ничего не забываю”, – говорил сам Паскаль. Все, что видел и слышал, врезывалось в память его неизгладимо, как стальным резцом – в камень. Но во время болезни она ослабела. “Часто, когда я хочу записать какую-нибудь мысль, она ускользает от меня, и это напоминает мне мою слабость, которую я все забываю, так что это напоминание для меня поучительнее, чем ускользнувшая мысль, потому что главная цель моя – познать свое ничтожество”.
Когда, излагая друзьям своим замысел Апологии, Паскаль настаивал на “порядке и последовательности” того, что хотел написать, он ошибался и потом понял свою ошибку: “Я буду записывать мысли без порядка, но, может быть, не в бесцельном смешении, потому что это будет истинный порядок, выражающий то, что я хочу сказать в самом беспорядке”. “Свой порядок у сердца, и у разума – свой, состоящий в первых началах и в их доказательствах; а у сердца порядок иной. Никто не доказывает, что должен быть любим, излагая в порядке причины любви: это было бы смешно”.
Сделаны были и, вероятно, еще много раз будут делаться попытки восстановить в Мыслях Паскаля “порядок разума”. Но все эти попытки тщетны: каждый читатель должен сам находить в Мыслях свой собственный порядок, не внешний – разума, а внутренний – сердца, потому что нет, может быть, другой книги, которая бы шла больше, чем эта, от сердца к сердцу.
“Мне было нужно десять лет здоровья, чтобы кончить Апологию”,– часто говорил Паскаль. Но и в десять лет не кончил бы, судя по всем другим делам его: счетная машина, опыты конических сечений, опыт равновесия жидкостей, “Опыт о духе геометрии”, – все осталось не конченным, а “Начала геометрии”, книгу тоже не конченную, он сжег. Письма прерываются внезапно, именно в то время, когда достигают наибольшего успеха и могли бы оказать наибольшее действие. Очень вероятно, что та же участь постигла бы и Апологию.
Все, что сделал Паскаль, этот “ужасающий гений”, подобно развалинам недостроенного мира.