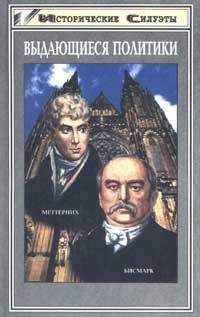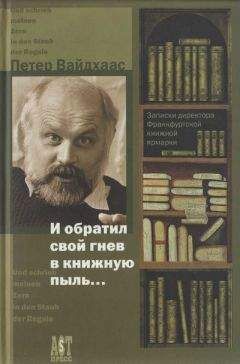На отношения между канцлером и императором наложила свой отпечаток взаимная привычка: это было нечто большее, чем чисто деловые отношения, но меньшее, чем человеческое тепло. К этому Франц I был неспособен, даже не принимая во внимание преграду, отделявшую его как властителя. Ни один из Габсбургов не оставил по себе столь непривлекательного портрета своей личности: портрет холодного, сухого, полностью лишенного фантазии коронованного администратора, педантичного формалиста до крайней степени, совершенно глухого к духу и идеям любого рода, крайне жесткого и неподвижного из-за косности натуры, что, впрочем, не исключало “усердия”, а как раз порождало его. Если он вообще был способен как-либо выразить свое расположение, то он выражал его своему государственному канцлеру, а последний отвечал ему неизменной верностью, которую он хранил и после смерти кайзера. Это не означает, что отношения этих двух людей были простыми, они были так же тяжелы и сложны, как позднее взаимоотношения Бисмарка и кайзера Вильгельма I. Меттерних порой изнемогал от прямолинейного стиля правления императора, который бесконечно затруднял ход государственных дел медлительными ежедневными служебными сношениями, но, как правило, переносил это, как и многое другое, “стоически”. Однажды он сказал о Франце: “Он обращается с делами, как сверлильщик, который погружается все глубже и глубже, пока наконец неожиданно не выйдет в другом месте, не сделав ничего иного, кроме дырок в документах”.
Враги Меттерниха были более наблюдательны, чем его друзья. Возможно, это даже свидетельствует в его пользу: ненавидеть кого-либо – значит принимать его всерьез. Ненависть имеет свои разряды, как и любовь; ненависть барона фон Штейна была сильна, как и все, что исходило от этого человека, но источники его ненависти были сложными не только из-за полной противоположности характеров, направлений и действий: непреодолимая вражда отстраненного государственного деятеля, которого мучило жестокое несоответствие между творческой силой и полем деятельности, по отношению к государственному деятелю на вершине власти, к чему он, по убеждению Штейна, а также Гумбольдта, был неспособен. Другие ненавистники, как, например, несколько неорганизованный историк барон Иосиф фон Гормайр, из-за личных мотивов, уязвленной гордости, ожесточения разного рода погрузились в бездну подлости или сбились с пути и в человеческом, и в литературном отношении, как Грильпарцер. Если собрать все его высказывания о Меттернихе, среди которых есть некоторые, претендующие на справедливость, то они будут свидетельствовать – и это самое мучительное – не о достойном поэта серьезном споре с государственным деятелем, его мыслями, его методами, а будут только собранием злобных, язвительных, часто просто глупых стишков и эпиграмм. Даже там, где Грильпарцер старается быть серьезным (как, например, в его знаменитом сочинении августа 1839 года, когда уже ждали смерти князя), ему недостает меры и ясности в суждениях. В целом это настолько же поучительная, насколько удручающая история: поэт производит дурное впечатление и с художественной, и с интеллектуальной, и с человеческой точек зрения как человек, который выходит на рынок современной истории, засучивает рукава, опрокидывает ящики и прилавки и при этом надрывается. Гете знал это и потому позволил этому произойти. То, что Меттерних, со своей стороны, не мог “ненавидеть в ответ” – опять-таки не из благородства, а из высокомерия, не усилие над самим собой, просто скука, – еще больше разжигало ненависть врагов, что понятно с психологической точки зрения.
Србик приложил огромные усилия для того, чтобы исследовать все стороны своего героя, не связанные с политикой или, по крайней мере, непосредственно ее не затрагивающие. Ничто не было упущено, пристальное внимание было обращено и на черты лица Меттерниха, и на его библиотеку, и на его отношение к литературе и искусству, музыке и театру, равно как к историографии, естественным наукам, промышленности и технике. Благодаря своей долгой жизни, своему происхождению и общественному положению он знал почти все, что заслуживало внимания в Европе и имело какое-либо значение; а поскольку он к тому же и в силу своей личной склонности, и в силу своей службы был страстным любителем писем, никогда не устававшим вести беседу любого рода, в салоне и в будуаре, в доверенном кругу и на широкой публике, с мужчинами и женщинами, друзьями и врагами любого происхождения, то нет практически ничего такого, о чем он когда-нибудь что-нибудь не сказал бы. Очень многое из этого известно, опубликовано как исторический материал – но что остается за строкой? Источников масса, но картина, которую они рисуют, расплывается. Нет подлинного величия ни в одной детали: высказывается ли он о религии или о поэзии Гете, об истории или финансах, все это – на уровне культурной и образованной посредственности; как государственный деятель – тоже ничего выдающегося в отдельных проектах и действиях: его европейская, австрийская и германская политика по духу и стилю застыла на уровне XVIII века. И тем не менее здесь снова целое – больше, чем сумма частей. Фигура Меттерниха – это исторический феномен первого ранга, ставший плотью и кровью синтез всех сил старой Европы – и в плохом, и в хорошем. Чем больше занимаешься им, тем больше это напоминает гигантский стоячий водоем, скорее широкий, нежели глубокий, в глубине которого мерцает разнообразное дно и в котором отражаются небеса и берега. Так и в Меттернихе присутствовало “вчера”, которое везде чувствовалось, но нигде больше нельзя было застать его; так и он стоял перед “завтра”, которое его коснулось, но не смогло завоевать для себя. Он был живым засовом между двумя веками. Если сегодня многие его действия кажутся оправданными, то это происходит из-за не зависящей от времени действенности некоторых его фундаментальных принципов и из-за того, что в ограниченном количестве исторических коллизий Европы и вообще совместного существования людей они все время проходят красной нитью.