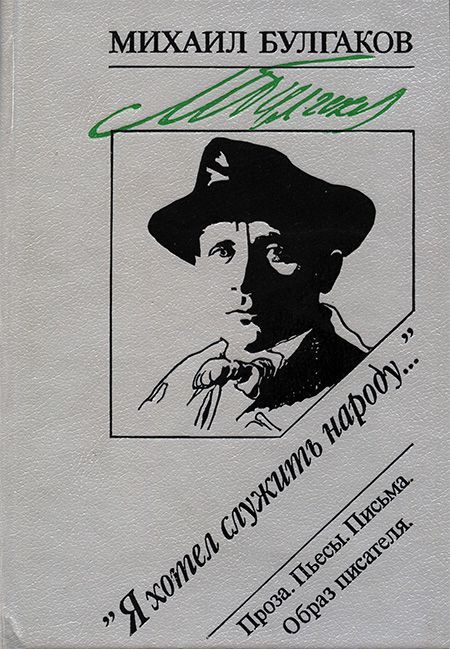десницею, вождь всегда относился по-отечески ревниво. Рассказывают, что в конце 40-х годов тогдашний оргсекретарь Союза писателей Дмитрий Алексеевич Поликарпов, освоившись с новой работой, пробился на прием в Кремль, чтобы на всякий случай, во избежание позднейшего упрека, охарактеризовать писателей, личные дела и политическую физиономию которых он досконально изучил. Он прошелся по всему наличному списку с краткими комментариями: «Этот бывший меньшевик… У этого теща — эсерка… Этого Бухарин хвалил… Тот космополит безродный…» Вождь слушал-слушал, прохаживаясь вдоль длинного стола, и вдруг шмякнул по нему со всей силы своей трубкой. «Товарищ Поликарпов, — сказал он, раздельно печатая каждое слово. — Других писателей — у меня — для тебя — нет». И спустя пять минут из соседней комнаты уже шел Поскребышев, неся на подпись проект постановления о переводе Поликарпова на другую работу.
Рассказ психологически правдив: человек с трубкой обиделся на товарища Поликарпова, ругавшего его писателей, как если бы его попрекнули тем, что в его стране не добывается качественный никель или не выращивают твердых пшениц.
Но это было уже в 40-е годы. Куда сложнее обстояло дело с писателями в начале 1930-го. Надо было приласкать и успокоить литераторов, придержать зарвавшийся РАПП. Недовольство обиженных могли использовать его политические враги. О нем должна идти слава покровителя истинных талантов.
Таков, по-видимому, лишенный мистики фон знаменитого телефонного разговора. Но Булгаков поверил — захотел поверить — в загадочную природу высокого покровительства. Лишь недавно видевший перед собой «нищету, улицу и гибель», он и в самом деле был принят на призрачную, но дававшую кусок хлеба службу в Художественный театр и выбросил револьвер в пруд у Ново-Девичьего монастыря.
Булгаков еще более убедился, что находится под присмотром и тайной защитой человека всемогущего, когда в 1932 году МХАТу была возвращена давно снятая с афиши пьеса «Дни Турбиных». На спектакле «Горячее сердце» в правительственной комнате за ложей глава театра Немирович-Данченко и обходительный царедворец с изысканными манерами, актер Подгорный, еще недавно встречавший здесь великих князей, принимали теперь кремлевских гостей. В антрактах велись непринужденные разговоры. Сидя на диване перед круглым столиком с цветами, бутылками вина и вазами фруктов и поднося спичку к трубке, вождь обронил, будто невзначай: «А почему давно не идут „Дни Турбиных“ драматурга Булгакова?»
Словно бы он не знал, точно не слышал того свиста и улюлюканья, под который еще недавно пьеса была снята из репертуара всех театров страны Главреперткомом. Будто не читал в газетах призыва через всю полосу — «Долой булгаковщину!» Будто сам не отвечал 2 февраля 1929 года на эпистолярный донос Билль-Белоцерковского рассудительным увещеванием: «Что касается собственно пьесы „Дни Турбиных“, то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда». [113]
Рябоватый вождь во френче с прищуром восточных глаз и мудрой улыбкой, прятавшейся в усах, делал вид, что не знает или не хочет знать всего этого, и Подгорный поддержал игру: «В самом деле, давно эту пьесу не давали… Декорации, Иосиф Виссарионович, требуют подновления…»
Вождь сел в черную машину с провожатыми и уехал, а Немирович и Подгорный молча переглянулись. Ба! Вот так история! Как прикажете понимать? И на всякий случай порешили выждать.
Но долго ждать не пришлось. Не прошло и недели, как в театр позвонил Авель Енукидзе и сказал, что товарищ Сталин интересуется, когда он может посмотреть «Турбиных»?
Тут уже Владимир Иванович не поглаживал неторопливо свою красивую бороду. Тут забегали, засуетились, артисты стали вспоминать текст, назначили срочные репетиции, извлекли и подновили начавшие плесневеть и осыпаться в сарае декорации, а счастливый автор написал своему приятелю П. С. Попову:
«В половине января 1932 года в силу причин, которые мне не известны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение — пьесу „Дни Турбиных“ возобновить.
Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору, возвращена часть его жизни».
В день спектакля, 18 февраля, Булгаков был в театре, потерянный и счастливый слонялся за кулисами, но не появился перед публикой. Станиславский передал ему свою просьбу не выходить на вызовы и не появляться в зале, чтобы не случилось апофеоза с нежелательным душком. Был когда-то на одном из спектаклей «Турбиных» случай: офицеры на сцене запели «Боже, царя храни», и часть публики встала. С тех пор в театре боялись эксцессов.
Добрейший Василий Васильевич Лужский, заведовавший труппой в театре, пытался успокоить Булгакова, нервничавшего еще с утра, спешной запиской:
«„У нас прибавят вечно втрое“, начинаю я словами из Вашей любимой комедии. Что вышло такое, что мне говорят, что Вы ушли и обиделись? Дорогой, был только разговор о том, как лучше Вам для Вас же самих, пьесы и Театра быть или нет сегодня в зрительном зале? Константин Сергеевич думал еще только об этом говорить с Вами, но сам он прихворнул, а уже слух о том, что Вам запрещено входить в зал, Вам передали? Или даже Вы не можете допустить мысли о том, что как лучше быть в указанном случае?! Перестаньте мучить себя, и без того измученного всей передрягой. За кулисами Вас будут ждать П. А. Марков и И. Л. Судаков, с ними все и вырешите!» (Музей МХАТ).
Все сошло благополучно. Автор на овации не вышел. Спектакль закончился триумфально.
Невозможно лучше описать атмосферу этого вечера, чем это сделал Булгаков в письме к Попову:
«От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: „Нет ли лишнего билетика?“ То же было и со стороны Дмитровки.
В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг как в шахте, тьма, и загораются фонарики помощников, и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света, и в темноте вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит, дышит… Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне по лестницам гимназии, и ослабевшими руками расстегивает ворот шинели. Потом вдруг тень ожила, спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась в гимназии. (Топорков играет Мышлаевского первоклассно).
Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось потом, а глаза были замученные, настороженные, выспрашивающие.
Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера и этим мгновенно привел меня в себя.
На кругу стало просторно, появилось пианино,