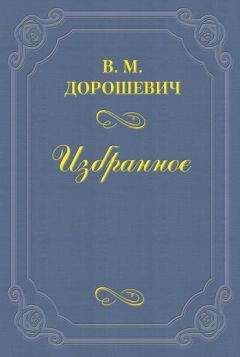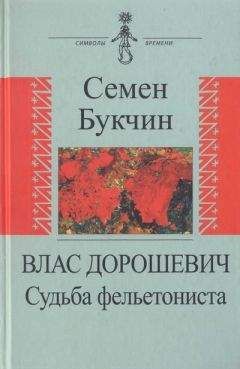Когда он в «Ночи на Лысой горе» дирижёрской палочкой словно разрубал какую-то гору и с ужасом на лице отступал, – это было не смешно.
А действительно страшно.
Потому, что в этом страшном аккорде оркестра, который он вызывал, словно надвое раскалывалась какая-то гора, и из расщелины, из недр земли, поднималось нечто, чего без ужаса нельзя видеть человеческому оку.
Вещим и могучим движением он, действительно, вызывал Чернобога, этот киевский кудесник.
И когда в финале увертюры к «Вильгельму Теллю» флейты и вся медь оркестра в диком, в бешеном, в фантастическом темпе, взвивались, венчали и славили свободу, гремели, звенели и пели её торжество, – этот прыгающий, скачущий, вертящийся, машущий руками шаман того колдовства, которое называется музыкой, – был не смешон, а великолепен.
Пьян и опьяняющ.
Когда среди ярких красок сказки-увертюры «Руслана», – пёстрых, как восточный ковёр, горящих, как степь весною в цветах, – среди Черноморова великолепия звуков, блеска и звона, – скрипки вдруг запели:
Ты, моя Людмила…
и с лицом счастливым Виноградский сложил руки и сам заслушался мелодией, – безумная зависть сжала сердце.
Хорошо быть дирижёром.
И творить из оркестра.
Это – бог.
Он сотворил и любуется:
– Как хорошо!
Однако, я вижу, в моём фельетоне «Вилли Ферреро», – о Ферреро ровно столько же, сколько в обвинительном акте по делу Бейлиса о Бейлисе.
Посмотрите на счастливую мордёнку Ферреро, когда оркестр напевает мелодии Бетховена.
Посмотрите на ту деликатность, которую он рекомендует оркестру по отношению к танцу-призраку Анитры:
– Не разбудите!.. Это сон!..
И взгляните на него, когда в увертюре к «Нюренбергским мейстерзингерам» духовые рисуют свою торжественную и величественную, как присяга, как клятва, суровую и стройную, в высь уходящую музыкальную картину.
Когда в оркестре, среди города звуков, поднимается к небу готический собор.
Этот пассаж повторяется несколько раз. Можно проверить себя.
Это не самообман и не случайность.
Вилли бледнеет, доходя до этого момента.
В нём есть что-то жуткое, страшное, когда он обращается к духовым.
Словно с заклинанием.
Его глаза мертвеют.
В лице появляется что-то бетховенское, рубинштейновское.
Эта львиная грива.
И что-то львиное есть в том, как он «цапает» воздух сжатой в комочек ручонкой.
Он – жуткий мальчишка.
И чем-то даже страшным веет от него в эту минуту.
Он – словно заклинатель и знает вещие слова. И умеет вызывать из звуков видения.
Пойдите, послушайте и посмотрите.
Вилли Ферреро, вероятно, ошибётся такта на четыре, – но вы проведёте один из самых очаровательных вечеров в своей жизни.
И увидите по этому помертвевшему лицу:
– Переживает ли он эти звуки?
– Послушайте, а не выучка ли всё это?
Послушайте, доставим себе роскошь не говорить глупостей.
Если Вилли Ферреро может запомнить не только все вступления в десятках музыкальных произведений, но и все жесты, все улыбки, все взгляды, все движения рук, головы, всего корпуса при каждом такте, – тогда это такое чудо памяти, что надо брать за место не 25 руб. 20 коп., а 50 руб. 40 коп.
– Значит, он гений?
Вовсе не значит.
Бог его знает!
Гений открывает новые пути. Талант расширяет те, которые уже существуют.
Гений творит. Талант улучшает.
Вот когда Вилли Ферреро что-нибудь сотворит в области музыки, – можно будет сказать, что он гений.
Когда он внесёт в исполнение оркестра нечто новое и лучшее, – можно будет сказать, что он талант.
А пока он только:
– Чудо.
Хорошо – только!
Видел чудо, – и свидетельствую о нём.
8-летний мальчик, который заставляет вспомнить и Шаляпина, и Рахманинова, и Виноградского, и Рубинштейна, – разве не чудо?
Рубинштейна, – я настаиваю на этом.
И не только потому, что Рубинштейн был тоже «вундеркиндом».
Лицо есть зеркало души.
И если в трагическом месте исполнения в лице мелькнуло что-то рубинштейновское, – значит, что-то рубинштейновское прячется и в душе.
Конечно, он не Шаляпин, не Рахманинов, даже не Виноградский, не Рубинштейн.
Но если в 8 лет есть что-то шаляпинское, что-то рахманиновское, что-то рубинштейновское, – этот мальчуган далеко пойдёт.
Бросим эту плаксивую манеру, каждый раз, как мы видим в театре, сытого, довольного, хорошо одетого, всеми балуемого ребёнка не в зрительном зале, а на сцене, вопить:
– Несчастный ребёнок!
Вилли Ферреро начинает свой концерт без четверти девять и кончает в четверть одиннадцатого.
Величайшее несчастье для детей, – это когда их рано укладывают спать.
Этого они, действительно, терпеть не могут.
И если сказать, что есть мальчик, который ложится спать в 11 часов, всякий ребёнок ему позавидует:
– Вот счастливый!
Вилли любит музыку и слушает очень хорошую.
Он был бы, действительно, несчастным мальчиком, если бы его заставляли часов по пяти сидеть в школе и зубрить какие-нибудь идиотские «слова на букву ять».
Любой ребёнок работает больше, чем Вилли Ферреро.
И обременён работой более трудной и изнуряющей, потому что её терпеть не может.
Трудно понять, почему надо оплакивать этого счастливого ребёнка, в 8 лет занимающегося только тем, что он любит.
Это и счастливый мальчик, и счастливый артист.
Потому что он единственный артист, который, действительно, не читает того, что о нём пишут: он не достаточно умеет читать.
Это чудесное видение. Радостное детство.
«Славят трубы и литавры юность светлую его».
И со счастливой мордёнкой он выбегает кланяться и благодарить.
А рядом с ним выходит и папаша.
Хотя никто в зале и не кричит:
– Автора.
В Орле. А. К.
Девичья фамилия Савиной – Подраменцова. Её отец был учитель рисования. А. К.
Эта версия об изучении Савиной французского языка, если и соответствует действительности, то лишь в весьма малой части. Может быть, у Савиной и была учительница французского языка, но основным учителем этого языка был Никита Всеволожский, её второй муж. И уже если Савина так прилежно изучала французский язык, то не для одного спектакля в год, а для того, чтобы «tenir tЙte» своему мужу, любимцу петербургских салонов. Всеволожская, не знающая по-французски, была бы, действительно, «мезальянсом». А. К.
Дорошевич тут явно увлекается, и выдаёт за объективный факт своё впечатление. Савина не меняла голоса – и ни один крупный актёр не меняет голоса – да и хотела бы, не смогла бы, потому что голос Савиной был крайне неблагодарный инструмент. То, что было очарованием её интонаций и варианты тона Дорошевич принял за изменение голоса. Эта ошибка только подтверждает верную мысль о силе художественного «наваждения». А. К.
Чекалова – опереточная старуха. Блистала в некогда знаменитом опереточном ансамбле – с Зориной, Бельской, Родоном, Давыдовым, Тартаковым. А. К.
Magister elegantiarum – Учитель изящества (Петрония называли Arbiter elegantiarum).
Имена ненавистны (не будем называть имён).
В. М. Дорошевич, после дебютов в юмористических журналах, стал фельетонистом «Нов. Дня», которым создал успех ежедневными фельетонами, под заголовком «День за день». А. К.
1909 г. А. К.
Александр Давыдович Давыдов – опереточный тенор, одно время кумир публики, партнёр В. В. Зориной. Умер в 1911 г. в Петербурге. А. К.
Nostra culpa. – Наша вина (лат.). Прим. ред.
М. Н. Ермолова была замужем за известным адвокатом, покойным Н. П. Шубинским, впоследствии депутатом-октябристом. А. К.
Манташев – известный нефтяной король. А. К.
Макс Холмин – герой «Блуждающих огней» Антропова, боевая роль любовника старого репертуара. «Старый барин» – пьеса А. А. Пальма. «Старый барин» – роль характерная, пожилая, героя-резонёра. А. К.
(«Моцарт и Сальери»)
Н. П. Рощин-Инсаров, талантливый и популярный актёр, был застрелен 10 января 1899 г. архитектором Маловым, приревновавшим Рощина к жене своей, драматической артистке, А. А. Пасхаловой, служившей вместе с убитым в театре Соловцова в Киеве. Рощин-Инсаров – отец известной артистки Е. Н. Рощиной-Инсаровой и артистки Московского Малого театра Пашенной. А. К.