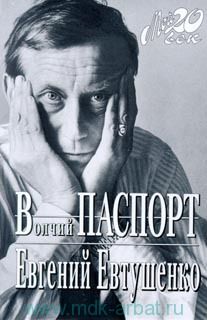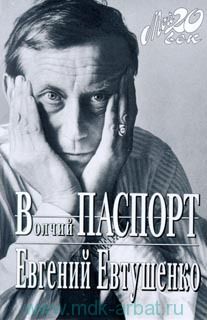•Я не еврейка (англ.).
летящие над нами реактивные самолеты, над волжским холмом вдохновенно летали упоенные руки влюбленного в Древнюю Русь дирижера с иудейскими глазами, генетически навсегда впечатавшими призраки погромщиков, сжимающих в кулачищах булыжники с прилипшими к ним окровавленными волосиками убиенных детей.
— Как странно, что здесь совсем нет интуристов. Здесь так прекрасно, — сказала моя англичанка.
— Что ж тут странного… — пожал плечами дирижер. — Горький — абсолютно закрытый для иностранцев город. Ведь у нас огромный танковый завод, да и много чего другого секретного. Сплошной «почтовый ящик».
Я похолодел от ужаса, поняв, что моя англичанка из-за моей беспечности может быть обвинена в нарушении паспортного режима и шпионстве, а вот в ее фиалковых глазах заплясали озорные чертики, как пираты с кинжалами в зубах, взобравшиеся в зрачки по невидимым мачтам.
Я совершенно потерял дар речи и угнетенно молчал, пока дирижер продолжал рассказывать и показывать город, еще не догадывающийся о том, что скоро его сделают местом ссылки Сахарова, именно благодаря закрытости для иностранцев.
Пока дирижер у двери своей квартиры искал по всем карманам куда-то запропастившийся ключ, я увидел на противоположной двери внушительную надпись, выгравированную на медной табличке: генерал милиции такой-то.
— Не правда ли, забавное у меня соседство? — улыбнулся дирижер. — Зато можно не бояться воров.
Но мне, в отличие от дирижера, стало не по себе.
— Вы извините, я приготовил завтрак в кухоньке, по-холос-тяцки… — извинился дирижер, но когда мы вошли в кухоньку-крохотульку, то обомлели.
На полу стояло, правда, не серебряное, а пластмассовое ведро с полурастаявшим льдом, из которого торчали сразу четыре бутылки шампанского, а на столе, застеленном белоснежной скатертью, красовался самый настоящий ананас, четвертый ананас за всю мою советскую жизнь, похожий на уменьшенный незабываемый павильон американской национальной выставки в 19S9 году в Сокольниках, накрытые прозрачной пленкой рябчики с брусничным вареньем и глубокая суповая тарелка, полная браконьерской икры, крупнозернистой, как свежий асфальт, еще не утрамбованный стальным катком.
— О, это самый красивый завтрак в моей жизни! — воскликнула моя англичанка.
— У вас легкий акцент… — заметил дирижер, пытливо вглядываясь в нее. — Вы из Прибалтики?
Она растерялась, замолчала, почему-то залилась краской, как будто ее поймали, как школьницу, на обмане.
— Простите, что я не сказала вам сразу. Я — из Англии.
Я думал, что нашего хозяина хватит инфаркт, но все произошло по-другому.
— То, что вы из Прибалтики, — это была только моя слабая надежда. Я давно понял, что вы не отсюда… — неожиданно спокойно сказал дирижер.
— Каким образом? — вырвалось у нее.
— Во всех нас, советских, есть какая-то скованность. Даже когда мы бываем развязны и хамоваты, — это от нашей скованности. Если нас одеть во все от Сен-Лорана или Кристиана Диора, мы все равно узнаваемы… Вы — из другого мира. Вы не стояли в очереди с детства.
— Но я стою теперь, — ответила она даже с гордостью. — Извините, но мы не знали, что Горький — закрытый город.
— Да вы не бойтесь, — сказал дирижер. — Если уж нас посадят, то посадят всех вместе.
Раздался звонок в дверь. Мы переглянулись. Звонок повторился еще настойчивей.
— Неужели в нашей стране еще кто-то работает, ну хотя бы КГБ? — невесело пошутил дирижер и пошел открывать.
В дверь не вошел, а как-то боком ввалился грузный человек лет шестидесяти, в шлепанцах на босу ногу, в спортивных динамовских шароварах со вздувшимися коленями, в майке, из выреза которой торчали седые заросли на груди, окружавшие, словно ковыль, татуировку с довольно нестандартной надписью: «Выхожу один я на дорогу».
— Сосед, у тебя не найдется глотка на опохмел? Нет, нет, шампанское — это не то. Чего-нибудь бы покрепче…
И я, и моя англичанка поняли, что это и есть тот самый генерал милиции.
Дирижер, исполненный добрососедских чувств, смешанных с тайным ужасом перед властью, даже если она в домашних шлепанцах, полез в холодильник, в кухонный шкафчик, под мойку и сокрушенно развел руками.
— А одеколончика, на крайний случай, у тебя не найдется? — с надеждой спросил генерал, страдальчески морщась от головной боли.
— Вчера сантехнику последний флакон «Шипра» отдал… — виновато признался дирижер.
— У меня есть парфюм… — с благотворительным энтузиазмом воскликнула моя англичанка.
— Чего, чего? — настороженно засопел генерал.
— Эго духи… духи… — поспешно развеял его настороженность дирижер, в отчаянье нажимая под столом на ногу моей англичанки, чтобы она не употребляла иностранных слов.
Она, видимо, превратно поняв этот тревожный сигнал, с деловитой последовательностью открыла сумочку и вытащила оттуда флакончик, сразу утонувший в изнывающе протянутой могучей ладони генерала.
— Это «Опиум», — пояснила моя англичанка.
Генерал, уже начавший откручивать пробку, встрепенулся, как сторожевой пес, и у него напряглись даже уши.
— Наркотик? — переспросил он, и в его мутных глазах появилась нацеленная профессиональная осмысленность, заискрились блики Золотой Звезды Героя Советского Союза, вручаемой ему самим Брежневым за раскрытие крупнейшего на территории Горьковской области наркобизнеса.
— Да нет, это только название, — залилась моя англичанка звонким смехом, не закомплексованным от советских доставаний лифчиков и туалетной бумаги.
— А… — несколько разочарованно успокоился генерал и тяпнул духи прямо из горлышка, кряхнув от произведенного глубокого впечатления. — Смердит, едри твою в корень, но градус-ность в порядке. А вообще-то наш «Тройной» получше.
И вдруг я заметил, что из беспечно раскрытой сумочки предательски торчит синяя с золотом обложка британского паспорта, на которой королевскую корону обнимают, как верные стражи, два уцененных парламентской системой льва. Слава Богу, мне удалось как бы небрежно прикрыть британский паспорт журналом «Советская музыка». Да, было о чем вспомнить после поездки в Горький…
А потом она пригласила меня в Англию, и я впервые оказался за границей не как поэт, а как родственник.
Ее дедушка был миллионером не в американском, а в английском смысле этого слова: у него был примерно миллион фунтов. Он начал мальчишкой с продавца в овощном магазине и разбогател на теплицах — даже для эксперимента однажды вырастил в Англии ананасы. В его шестнадцатикомнатном доме, где он жил вдвоем с женой, не было ни одной книги, за исключением Библии.
— Зачем покупать другие книги, если все написано в Библии, а я ее всю еще не прочел, — сказал он мне.
Он с уважением стал относиться ко мне, после того как увидел, что я сам глажу свои вельветовые брюки.
— Вельвет — трудный материал, — заметил он. — Вы правильно делаете, что гладите его через газету. Эго единственное, на что газеты годятся.
Одна довольно богатая родственница моей жены вдруг заявилась к ней с норковым манто в руках.
— А ну-ка примерь…
Когда моя жена надела манто, родственница воскликнула:
— Оно как будто сшито на тебя. Решено — оно твое.
Моя жена зарделась, признательно поцеловала родственную щеку и украдкой бросила гордый взгляд на меня — вот видишь, какие у меня родственники.
Но родственница, хохоча, стянула с нее подарок.
— Я своему слову хозяйка. Оно твое, милочка, твое… но только после моей смерти, — и продолжала хохотать, видимо находя свою шутку остроумной.
Я даже отвел глаза от лица моей жены — настолько оно было убитым, униженным.
На следующий день я пошел к моему лондонскому издателю, выцыганил у него аванс за книгу фотографий и купил моей жене норковое манто. Я никогда ее не видел настолько сияющей. Дело было, конечно, не в шмотке, — плевала она на них! — а в ее гордости.
Пальцы ее рук были доказательством ее «низкого» происхождения — они были толстыми, словно манильский канат, и корявыми, словно корни дубов Шервудского леса. В своем роду, происходящем от французских вояк и английских пиратов, она была первой, кто получил высшее образование, да еще и кембриджское. А до этого она училась в женском Че-тельхэмском колледже, знаменитом строгими правилами, и читала такие, отнюдь не рекомендованные книжки, как «Любовник леди Чаттерлей» или «Лолита», укрывшись с головой под пуховым одеялом и водя карманным фонариком по буквам. Она была капитаном команды колледжа по хоккею на траве. прекрасно плавала, владела всеми приемами бокса и дэду. джитсу.
Однажды в ресторане ВТО, когда ко мне начал лезть какой-то пьяненький актеришка, макая засаленный галстук в мой са. лат, она, очаровательно улыбаясь, сделала полузаметное молниеносное движение, и он с хряском шмякнулся о стену, сползая по ней, как обезмускулевший мешок с костями. Впоследствии и мне дважды пришлось испытать силу ее удара — один раз по морде, после чего я ходил несколько дней в позе дисциплинированного солдата, равняющегося только направо, а второй раз — ногой, и в то самое место, которое это заслужило.