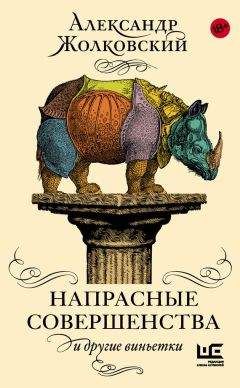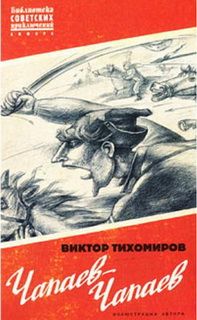Что политические ярлыки помянуты здесь не всуе, видно из того, каким образом произошло наше тогдашнее примирение. Ровно через два года, осенью 1968 года, после вторжения в Чехословакию, на работе меня стали прорабатывать за подписанство и пытались уволить с работы (что не удалось благодаря поддержке коллег, иногда героической[16]). При очередной случайной встрече[17] В. В. Иванов подошел ко мне, приветливо пожал мне руку и заговорил со мной на “ты” – как ни в чем не бывало. Он, видимо, реабилитировал меня как обретшего лавры мученика совести. Когда я рассказал об этом общему коллеге (в дальнейшем эмигрировавшему одним из первых), тот не стал его защищать, а сказал: “Что ты хочешь? Плохая страна. Плохая власть. Плохие диссиденты…”
С Юрием Иосифовичем Левиным я познакомился на заре нашей семиотической юности, году в 1960-м. Знакомство было сначала чисто профессиональным, но потом перешло в приятельство – по моей прямолинейной инициативе, когда после отъезда в Израиль Димы Сегала, с которым он был особенно близок, я предложил ему более тесное общение, каковое до известной степени и наладилось. Оно продолжалось до моей собственной эмиграции, но в постперестроечный период не возобновилось, несмотря на совместные попытки его реанимировать в ходе моих наездов в Россию.
У него было чему позавидовать – он являл на редкость гармоничное сочетание чуть ли не всех мыслимых достоинств. Он был высок, худощав, спортивен, изящен. У него было тонкое красивое лицо, с высоким лбом, казавшимся еще выше благодаря ранней типично еврейской лысине, которая его не старила, ибо цвет лица, невзирая на непрерывное курение, оставался свежим. Он любил лыжные и пешеходные прогулки за городом, а в качестве страстного грибника и прибалтийского дачника осенью привозил в Москву обильные запасы грибов и ягод. Он любил выпить – охотно пил водку, но разбирался и в винах. Он был меломаном – завсегдатаем концертов и коллекционером записей. Женат он был на представительнице самой что ни на есть аристократической фамилии – Ирине Глинке (постепенно выяснилось, что ее отец не погиб во время войны, обосновался за океаном и печатал там стихи). По образованию и занимаемой должности он был математиком, доцентом технического вуза и свои вполне успешные занятия поэтикой осуществлял, как бы в порядке джентльменского хобби, в свободное от работы время, так что его материальное благополучие не зависело от неверных судеб советской гуманитарии, а владение математикой давало ему преимущества в период увлечения точными методами в филологии. Он имел доступ к эмигрантской литературе (в частности, с ранних пор читал Набокова и Ходасевича), был вхож в диссидентские и литературно-художественные круги, знаком с Даниэлем, Окуджавой и Самойловым и мог доставлять приятелям как сам-, так и тамиздатские сочинения Пастернака, Зиновьева, Синявского, Солженицына и других.
Этой многогранностью он был отчасти обязан семейным связям: вдобавок к жене-аристократке и тестю-эмигранту у него были дядя доктор филологических наук и отец доктор юридических наук и к тому же видный философ, правда, подпольный, при жизни не публиковавшийся (Юра в дальнейшем издал двухтомник его трудов). От отца он мог унаследовать не только логико-философский профиль и интеллектуальную дисциплину, но и сам катамаранный принцип официальной, для заработка, службы в одной области и творческой, для души, деятельности в другой.
Дядю его, Виктора Давыдовича Левина, я знал по работам и немного лично, об отце же слышал редко – Юра и тут сохранял светскую непроницаемость человека со множеством отсеков. Но однажды он нас познакомил.
Придя к Юре в гости, я был представлен скромного вида пожилому человеку:
– Алик, познакомьтесь: мой папа.
Это было неожиданно, но я оказался на высоте и предложенную задачку решил с ходу:
– Здравствуйте, Иосиф Давыдыч!
Задачку, конечно, несложную: его имя крылось в отчестве Юры, а его собственное отчество с большой вероятностью должно было быть то же, что у Юриного дяди. В отличие от Юры и подобно Виктору Давыдовичу, Иосиф Давыдович был небольшого роста и, в отличие от обоих, скорее некрасив. Он вскоре ушел, и я больше никогда его не видел.
С отчеством Юры был связан забавный эпизод. Как-то в первой половине 1960-х годов, на конференции, проходившей, насколько помню, в Институте иностранных языков, мы сидели рядом в полупустом зале и вполуха слушали очередной провинциальный доклад по стилистике, перебрасываясь время от времени ироническими замечаниями и последними сплетнями. Это не помешало нам расслышать незабываемое: “… и тут мы опираемся на классическую работу Юрия Ивановича Левина по семантике поэтического текста…” Я немедленно его поздравил:
– Да, Юра, если в российской глубинке вы уже “Иванович”, то всё, это настоящая слава, это вы таки да классик, завидую.
Мы посмеялись и потом неоднократно вспоминали эту историю, но задним числом с завистью стоит разобраться.
Утверждать, что я от нее свободен, было бы несерьезно, но можно попытаться уточнить, каким именно ее видам я подвержен. Злые чувства мне не чужды, но это, в первую очередь, обида, ревность, месть, злорадство и только на каком-то десятом месте зависть, причем в доброкачественной форме – так называемая белая, когда восхищаешься соперником и хочешь его переплюнуть, но зла ему отнюдь не желаешь. Черной зависти я за собой не знаю и объясняю это своим нарциссизмом и асоциальностью: что вы там ни говорите, а я сосредоточен на собственных талантах, и до ваших мне дела, в общем-то, нет.
Отдавая ренессансным совершенствам Левина должное, я им не завидовал. Во-первых, у меня у самого имелись некоторые сходные достижения (рост, лыжи, папа профессор, кое-какие знакомства, в дальнейшем – подписантство и эмиграция), а во-вторых, некоторые его достижения мне таковыми не казались. Особенно сильно не завидовал я ему по части жены <…>.
Главное же, я не завидовал его научной продукции, пользовавшейся признанием как среди семиотической элиты, так и в ученых массах. Не то чтобы я ее не ценил, но я ей, вот именно, не завидовал, то есть не хотел бы быть ее автором – не просыпался по ночам с мыслью: ах, как же так не я это написал?!
А он, возможно, просыпался. Во-первых, он вообще был завистлив (таково не только мое мнение), а во-вторых, среди объектов его зависти бывал и я. Так, он настойчиво критиковал некоторые мои излюбленные идеи, а потом без ссылок развивал сходные в своих работах. Подобные эксцессы, на первый взгляд, противоречащие образу неуязвимо совершенного во всех отношениях дилетанта, не так уж удивительны. Неприступная многобашенная крепость для того и возводится, чтобы скрывать неудовлетворенность огороженным ею хозяйством.