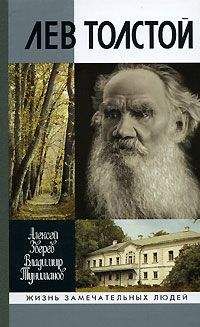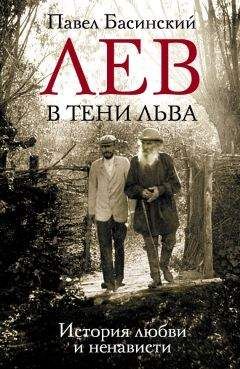Незадолго до того, как отправить «Детство» Некрасову, Толстой пишет откровенное письмо тетеньке Ергольской: сетует на установившуюся за ним репутацию чудака и гордеца, утверждает, что сам он в ней неповинен, просто дает себя почувствовать «слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю». И вот в чем разница: «Ежели во мне и есть что хорошее по милости Божьей, то только доброе сердце, чуткое и любящее, которое Богу угодно было дать мне и сохранить до сих пор».
Кавказские дневники пестрят горькими признаниями, что тщеславие и дурные страсти вновь оказались сильнее, чем высокие порывы души, что установленные для себя моральные правила снова не выдерживаются, что никак не удается «быть лучше и приготовить себя к той жизни, которую я избрал». Но желание счастья не ослабевает, и счастье видится Толстому возможным, пока сердце остается добрым, чутким, любящим, каким оно и должно быть в человеке по самой его природе. Наполненное многочисленными отзвуками собственной пока еще очень короткой биографии, «Детство» по существу превращается для Толстого в размышление о человеческой природе, какой она воплотилась в нем самом.
В конце жизни Толстой, не любивший говорить о собственных художественных сочинениях, сделал исключение для первой повести: «Когда я писал „Детство“, то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил поэзию детства». А главной отличительной чертой этой повести он назвал необходимое литературе «целомудрие». Смысл этого определения как будто напрашивается: нежелание вторгаться в те стороны взрослой жизни, которые для ребенка загадочны и страшны. Но можно понять его и по-иному. Толстой «целомудрен» тем, что в его трактовке детство — единственная пора, когда все чистое и высокое, что в людях заложено от рождения, проступает с непреложностью, с отчетливостью, неизбежно пропадающей по мере того, как накапливается реальный опыт. Приходит скепсис, безверие, ожесточенность, а поэзия исчезает бесследно или вспоминается лишь как наивная сказка. А для Толстого в этой сказке заключена главная правда о человеке.
Вряд ли, работая над «Детством», Толстой прочел «Сон Обломова», отрывок из будущего романа, напечатанный Гончаровым в 1849 году в одном мало кем замеченном сборнике. Но между этим отрывком и повестью Толстого объективно есть сходство, потому что для обоих писателей «поэзия детства» остается тем золотым запасом, который мало кому удается сохранить. Есть, однако, и очень ясное различие. Гончаров написал идиллию или окрашенную ностальгией поэму, потому что план «Обломова» он уже продумал и было известно, каким грустным итогом завершится жизнь его героя. Для характеристики «Детства» оба эти слова — идиллия, ностальгия — не годятся.
Здесь нет ни умилений, ни печали о невозвратном. «Невинная веселость и беспредельная потребность любви» владеют душой Николеньки с его неиспорченным воображением, свежестью чувств и светлой верой в счастье, но «темные пятна» уже проступили среди грез и восторгов. Рассказчику кажется, что случилось это из-за неосознанной жестокости, с какой старшие мальчики наказали попавшего в их компанию тщедушного подростка, который не проявил в игре мужества и твердого характера. На самом деле это лишь мимолетный эпизод, а настоящим «темным пятном», которое никогда не сотрется и не позабудется, становится смерть матери, потрясающее мгновение, когда в безоблачный мир Николеньки входят страдание и ужас. А на последней странице — стоит он у заросшего крапивой холмика на сельском кладбище, где похоронена экономка Наталья Савишна, бесконечно им любимая в младенчестве, и, вспоминая о ней, покоящейся неподалеку от матери, размышляет, как беспощадна жизнь: «Неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..»
«Поэзия детства» не обрывается, не затухает, но никогда уже она не будет только радостью и чудесной фантазией. Подавляя в себе внутреннее сопротивление и страх, Николенька разглядывает безжизненное лицо — прозрачное, воскового цвета, окруженное лентами и кружевами — и отказывается верить, что это действительно она, потому что не может принять свершившееся как факт. Невыносима мысль, что разрушены «картины, цветущие жизнью и счастьем». Вопреки очевидности эти картины возвращаются, сознание действительности отступает перед непоколебимым детским убеждением, что смерти нет, и, глядя на лежащую в гробу, герой, сам этого не понимая, поскольку чувство собственного существования в эту минуту потеряно, «испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение». Словами выразить это Николенька, конечно, не в состоянии, да и автор еще нескоро найдет нужные слова: лишь в предсмертном письме матери прозвучало, что любовь не может уничтожиться, потому что душа существует любовью к близким, а душа бессмертна. Сказано об этом несколько книжно, с оттенками выспренности, невозможными у Толстого в эпоху творческого расцвета, однако уже наметилась — мысль, которая пройдет через все его творчество. С большой точностью передал эту мысль Бунин, написав, что для Толстого «сущность жизни вне временных и пространственных форм».
Сами эти формы, особенно пространственные, воссозданы начинающим писателем с пластичностью, не имеющей аналогов в тогдашней русской прозе. Обозначилось противоречие, повторявшееся и впоследствии, когда Толстой достиг своих вершин. Никому больше не дано было настолько органично и ярко передавать бесконечно изменчивые лики мира. И никто больше не умел с такой настойчивостью, даже одержимостью напоминать, что все кончается небытием, которое, однако, не синоним бесследного исчезновения, ибо жизнь в самом важном своем содержании никогда и не принадлежит этому миру или, во всяком случае, не принадлежит ему целиком.
Читателям «Детства», даже самым проницательным, было сложно уловить эту мысль, которая в ту пору оставалась только смутной догадкой и для Толстого. Но он твердо верил, что отрицание смерти естественно в силу природы человека, по крайней мере той, которую он распознавал в самом себе. Оно столь же естественно, как доброта, или потребность в любви, или чувство родства со всем, что вокруг, и со всеми, кто рядом. С отцом, матерью, братьями, гувернером Карлом Иванычем, с Натальей Савишной, которая прожила весь свой век при maman и ужасно обиделась, когда в награду за труды ей, крепостной, выписали вольную. Со странником и юродивым Гришей, ходившим в веригах, с девочкой Катенькой, испугавшейся, когда в чулане совершенно бессознательно Николенька схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. С березовой аллеей перед домом, верховыми лошадьми, гончим псом Жираном, даже с муравьями, которые деловито сновали по пробитым ими тропинкам среди зеленых травок, когда взятого на охоту Николеньку посадили отдыхать у корней дуба, между сухими листьями, обломанными хворостинками и желудями.