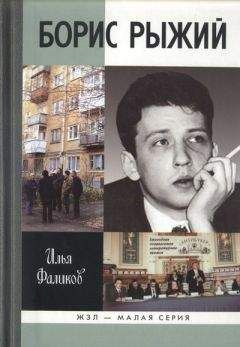Я подобрал потребное количество пленных. Это были главным образом отцы семейств, уроженцы областей, уже занятых Красной Армией. Вызывал их по двое, по трое, опрашивал, торжественно вручал документы, жал руки. Форменное вытягивание во фрунт быстро сменилось у них чувствами человеческими. Иные тихо, стыдливо плакали, здесь же, отойдя в уголок. Один пытался поцеловать мне руку. Другой троекратно прокричал: «Да здравствует Красная Армия!»
Под самый конец разыгралась трагедия. В комнату, где шло вручение документов, вбежал пожилой солдат с мозолистыми крестьянскими руками и отчаянием в глазах. Это был земляк, однодеревенец, сосед двадцатого номера. По всем пунктам он не уступал своему приятелю, которого мне подсунул писарь. Однако удостоверений было всего двадцать. Отбирать же документ одного из отпущенных — через полчаса после торжественного вручения — было еще труднее, чем отказывать новому просителю.
И я прогнал солдата.
Потом начались сборы. Политичные повара подзывали мадьяр к весам, заставляли свидетельствовать точность выдаваемой им трехдневной нормы. Когда разделили буханки и увязали мешки, я выстроил всех двадцать в лагерном дворе — на предмет выслушивания моей напутственной речи. У стен безличным греческим хором стояли не вошедшие в число.
Я сказал:
— Ну что, увидели, как воевать против России? Надо было вам уходить из деревень? Так знайте же: сейчас мы отпускаем вас, но ваши росписи остаются нашим документом, и ваши фамилии тоже записаны. Если через двадцать лет, через тридцать кого‑нибудь из вас опять возьмут в плен — висеть ему на виселице, поверьте мне на слово!
Мадьяры заорали:
— Правильно! Спасибо! Так ему и надо, собаке! — И потом — с неслыханной искренностью: — Да здравствует господин товарищ майор! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Россия!
Это была отличная речь, одна из лучших моих речей за всю войну — по краткости и выразительности. Я до сих пор верю, что этих мадьяр больше воевать с Россией не заставишь — ни за какие коврижки!
И еще я сказал им:
— Сейчас вы можете идти. Разбейтесь на двойки. Пройдите по деревням. В городе ходите по самым людным улицам. На станциях смешивайтесь во все очереди — на посадку, на перрон, в кассы. Говорите всем: немцы заставили нас воевать против России, а Россия отпустила нас домой и дала нам этот хлеб на дорогу.
Мои мадьяры поспешно, словно боялись, чтобы их не вернули, кинулись к театрально распахнутым воротам.
И на них молча смотрели не вошедшие в число.
В начале декабря 1944 года в штаб 61–й гвардейской дивизии явился капитан, документально доказавший, что он является адъютантом графа Бетлена. Бетлен просил вывезти его с семьей из имения, где они скрывались от немцев, и переправить их через фронт.
Немецкое отступление уже заканчивалось, но фронт еще не стабилизировался. Майор Розенцвейг с десятком конников вывез Бетлена, адъютанта и тяжеленький чемодан, успел даже позавтракать в его имении. Семья выехала позднее и также спокойно достигла нашей зоны.
Неделю спустя я написал биографию Бетлена.
Друг, советник, соперник Хорти, он до сих пор остается одним из виднейших политиков Центральной Европы. Трансильванец, как и Маниу, он лишен демагогичности последнего, более бесспорен. У него те самые джентльменские манеры, о которых говорил английский журналист. Потомок двух правителей Семиградья, он потерял состояние после аграрной реформы в Румынии. На допросе нервно спрашивал о судьбах своей провинции. За десять лет премьерства он не потерял популярности, прослыл либералом, патриотом, позднее антифашистом. Крупный деятель, завсегдатай Лиги Наций, он ехал к нам на премьерское кресло. Знал, что с коммунистами не поработаешь в белых перчатках. Предлагал свои услуги для черной и черновой работы, взялся бы и за грязную работу На допросе рассказал о тайном совещании у Хорти, где все бывшие премьеры Венгрии, целые эпохи ее бытия, решали (каждая эпоха по — своему), выходить ли из войны, и решили: выходить.
От плохо проведенного допроса все же пахнет всемирной историей.
Бетлен был увезен в Печ, жил там под неусыпным надзором Военного Совета, ублажался всячески, охранялся основательно. В правительство его не ввели: во — первых, был слишком правым, притом с выраженной ориентацией на палату лордов, во — вторых, был слишком крупным — его присутствие в правительстве Миклоша не только подчинило бы ему прочих министров, но и санкционировало бытие этого правительства перед Европой. Тогда это было нежелательно.
Невведение Бетлена в правительство повлекло за собой неиспользование его имени в нашей пропаганде.
В январе 1945 года Бетлен попросил сообщить ему, как живет его семья. Незадолго до этого наш переводчик Зайцев вывез его семью в Капошвар и поселил ее в губернаторском доме, за что был вознагражден золотой зажигалкой из ручек самой графини. Мне дали легковую, пятнадцать минут сроку и поручили выяснить, не удрала ли куда‑нибудь графиня с домочадцами. Я выговорил право объяснить свой визит беспокойством командования о нуждах и т. п. Семья Бетлена состояла из графини Сечени, его многолетней, известной всей Венгрии фаворитки, ее дочери — графини Болза, мужа дочери — графа Болза и двух детишек.
В дороге я поспешно решал, целовать или не целовать графинины ручки, — с этой категорией человечества я сталкивался впервые. Графиня приняла меня, и все сомнения рассеялись. Она оказалась ссохшейся щеколдой, без следов былой красоты. Ее ручка не вызывала больше никаких желаний. Я наскоро (пятнадцать минут кончались) выразил благочестивую тревогу командования. Графиня попросила пятнадцать килограммов сахару и пятьдесят килограммов масла. «Фюнфциг одер фюнфцен, мадам?» — спросил я и несколько окосел: в те времена масло нельзя было достать ни за какие деньги, а в килограмм сахара женщины, не в пример графине, добальзаковского возраста оценивали ночь любви.
— Пятьдесят, пятьдесят, господин майор! У меня двое маленьких детей. — И она сделала соответствующий жест.
Я откланялся. Начальство посердилось в связи с аппетитами старухи, но смирилось: в Капошваре на нас работал сахарный завод с 600 рабочими.
В январе 1945 года, проездом, я прожил день в замке графа Вексельхаймба.
Сто лет назад один из офицеров карательной армии Виндишгреца получил в награду за усердие земли в районе местечка Таб. Он построил дворец со стенами, выдерживающими огонь корпусной артиллерии. Внутри замок напоминал музей гравюры и акварели — триста лет подряд плотные листы с батальными и жанровыми сценами обрамлялись, развешивались симметрично, медленно коробились и желтели. В простенках между окнами стоят кресла. Они основательно ободраны, хотя кожа на них слишком тонка для обуви. Над каждым креслом — веер из слоновой кости и японского шелка. Тонкий налет пыли окончательно тусклит вялые краски шелка. Веера повертели в руках и повесили — как не имеющие практического значения. Это направление мародерства очень типично. Во времена Кишиневской операции и в более древние брали часы, кольца, компасы, пару — другую белья. Ограничивали аппетиты лимитами вещевого мешка. В Румынии начали брать деньги и отрезы (блеснула надежда на скорый конец войны). Ковры стали брать только тогда, когда представилась возможность перевозить их, т. е. после захвата австрийского автотранспорта. Революционный скачок в этой области произошел после разрешения посылок.