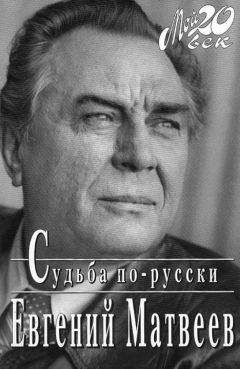— Михаил Иванович Царев, подписывая мне разрешение на съемки, так, как бы вскользь, пробормотал: «Отчаянный вы, Евгений Семенович… В этой роли еще ни один актер не срывал лавры… Катюша Маслова, выражаясь балетным языком, будет вертеть тридцать два фуэте, а вам достанется только поддерживать ее за талию…»
Меня вдруг понесло жаловаться, поплакаться Утесову в жилетку.
— Действительно, атмосфера недоброжелательности вокруг меня сгущалась… Говорили: «Швейцер с ума сошел. На кирзовый сапог собирается надеть замшевые гамаши». А одна довольно преуспевающая критикесса прямо наотмашь «вдарила»: «Ну, ну, поглядим Волка в красной шапочке!..» И только Михаил Абрамович и Софья Милькина, сорежиссер Швейцера, оберегали меня от, так сказать, гуманитарного травматизма. Обычно режиссеры клянутся в любви к актеру, а Швейцер просто любит его… И тем не менее… Вот любопытная деталь. Тамара Семина в то время была худенькой, что явно не соответствовало Катюшиным заботам: «Только бы не похудеть». Швейцер ежедневно приносил или требовал, чтоб приносили, на репетицию пиво и сметану и заставлял актрису пить этот противный коктейль. Тамара, морщась, осушала стакан за стаканом и набирала вес.
— Значит, прав старик Станиславский, говоря, что искусство требует жертв? — с улыбкой произнес Утесов.
— В этом случае скорее подходит ваша песня: «Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет!» — Я обнаглел и не просто процитировал строчку, а напел «под Утесова».
Леонид Осипович, склонив голову на плечо, с лукавинкой снизу вверх посмотрел на меня:
— Посмеиваться над эстрадой грех. — И шутливо погрозил пальцем.
— Что, и там проблемы?
— Знаете, я о международном положении сужу по нашему отношению к джазу: как только начинается гонение на джаз, значит, хреновые дела у нас с Америкой… Я всю жизнь под джаз пою советские патриотические песни. А сейчас вовсю долдонят, что я, видите ли, подражаю загнивающему Западу…
Леонид Осипович левой рукой оттопырил ухо, шумно, через ноздри, втянул в себя воздух и низким голосом запел: «Широка страна моя родная!..»
Я откровенно расхохотался:
— Это же Поль Робсон!
— Он самый… И представьте себе, знает он — только одну советскую песню… Улавливаете?
Что замечательный артист имел в виду под «улавливаете» — не знаю. Но думаю, что в душе его сохранялась обида за безразличное, а порой и презрительное отношение властей к нашему эстрадному искусству вообще и к джазу в частности. И за откровенное пресмыкание перед западными звездами, которые когда-то где-то одобрительно высказались в пользу нашей идеологии… Одним словом: «Нет пророков в своем отечестве»…
Незаметно мы приблизились к столовой.
Вдруг Утесов легко, озорно склонился и по-лакейски угодливо проговорил:
— Желаю здравствовать, ваше сиятельство. Чем потчевать прикажете?
— Чем Бог пошлет, — подыграл я «лакею».
Утесов выпрямился, выпятил живот и, важно скрестив на нем руки, по-солдафонски рявкнул:
— Тады проходь и лопай, шо дадуть!..
Такое моментальное перевоплощение многогранного артиста рассмешило нас обоих. Мы помогли друг другу стряхнуть с одежды липкий снег и вошли в «трапезную».
К сожалению для меня, продолжения разговора не состоялось — Леонид Осипович через день уехал…
Через день и погода испортилась. Тоскливо стало в «Рузе»…
Алый тюльпан — Макар Нагульнов
Тридцатый год… Наше украинское степное село, жизнь в котором напоминала растревоженный улей… Помню как сейчас падающие с треском, объятые пламенем балки амбара и людей, кидающихся в огонь, чтобы спасти колхозное зерно… Узкая улочка села от тына до тына запружена людьми, которые идут за гробом, покрытым красным знаменем, — это односельчане провожают в последний путь колхозного активиста, убитого кулаками. Оркестра в селе, конечно, не было. Не знаю, может, его не было и во всем нашем Скадовском районе. И люди пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» Помню — страшно тогда было…
А через день-два — крики, смех, частушки: в поле вывозили локомобиль, огромную паровую машину. Кто-то из сельчан спросил у парубка с портупеей через плечо:
— Что это за диковина?
— Что, что? Сообща молотить будем!..
И помню — всем было весело…
Раннее детство мое прошло без книжек, если не считать букваря. Сказочные герои не могли поражать мое воображение. И не снились мне, деревенскому мальчишке, Коньки-горбунки, Ильи Муромцы, Аленушки и Соловьи-разбойники.
Двенадцатилетним хлопцем я начал читать «взрослые», толстые книжки. Чтение, разумеется, было бессистемным и часто просто сумбурным. Из того книжного многолюдья память моя сохранила особенно отчетливо образ джеклондоновского Мартина Идена и шолоховского Макара Нагульнова. «Поднятая целина» произвела на меня ошеломляющее впечатление. Несомненно, полного понимания ее смысла у меня, тогда еще мальчишки, не могло быть. Огромная философская сила произведения входила в мое сознание исподволь, постепенно. Я и до сих пор не перестаю радоваться открытию чего-то для себя нового в «Поднятой целине».
Макар Нагульнов ворвался в мою жизнь и сразу захватил своей неодолимой жаждой жить, бороться и творить. Кто из подростков не выбирал себе в идеалы литературных персонажей? Кому из нас не приходилось в мечтах пребывать в образе любимого героя?
Макар не давал мне покоя всю жизнь — хотелось все измерять его страстной, бескомпромиссной целеустремленностью, искренностью и преданностью: «…И партии я буду еще нужен… И мне без партии не жить… Вот он билет в грудном кармане… Попробуй, возьми его! Глотку перерву!»
Хотелось на все смотреть чистыми, ясными глазами. Глазами человека из народа, всем существом своим связанного с народом и живущего для народа… Хотелось, уметь так же сильно, до боли, до страдания чувствовать…
Позже, когда я был уже офицером, преподавал в военном училище, писал бесконечные рапорта с просьбой отправить меня на фронт, чтобы воевать с фашистами, я постоянно возвращался к «Поднятой целине», к ее героям и в который раз задумывался о беспредельной нагульновской ненависти к врагам революции. Так что всю войну красноармеец Макар Нагульнов стоял с нами в одном строю. Сколько раз, бывало, приходилось мне слышать, как, в шутку или всерьез, говорили между собой солдаты, которых мы обучали искусству ведения боя: «Эх, нет на тебя Макара!» или «Раз думаешь о девке, значит, от главного отвлечен… Вот и выходит, что ты из другого взвода, не из нагульновского…»
А меня однажды за излишнюю горячность и нетерпимость старший офицер оборвал словами: «Ты, Матвеев, кумекаешь, как Нагульный! Все у тебя сплеча, все сплеча!..»