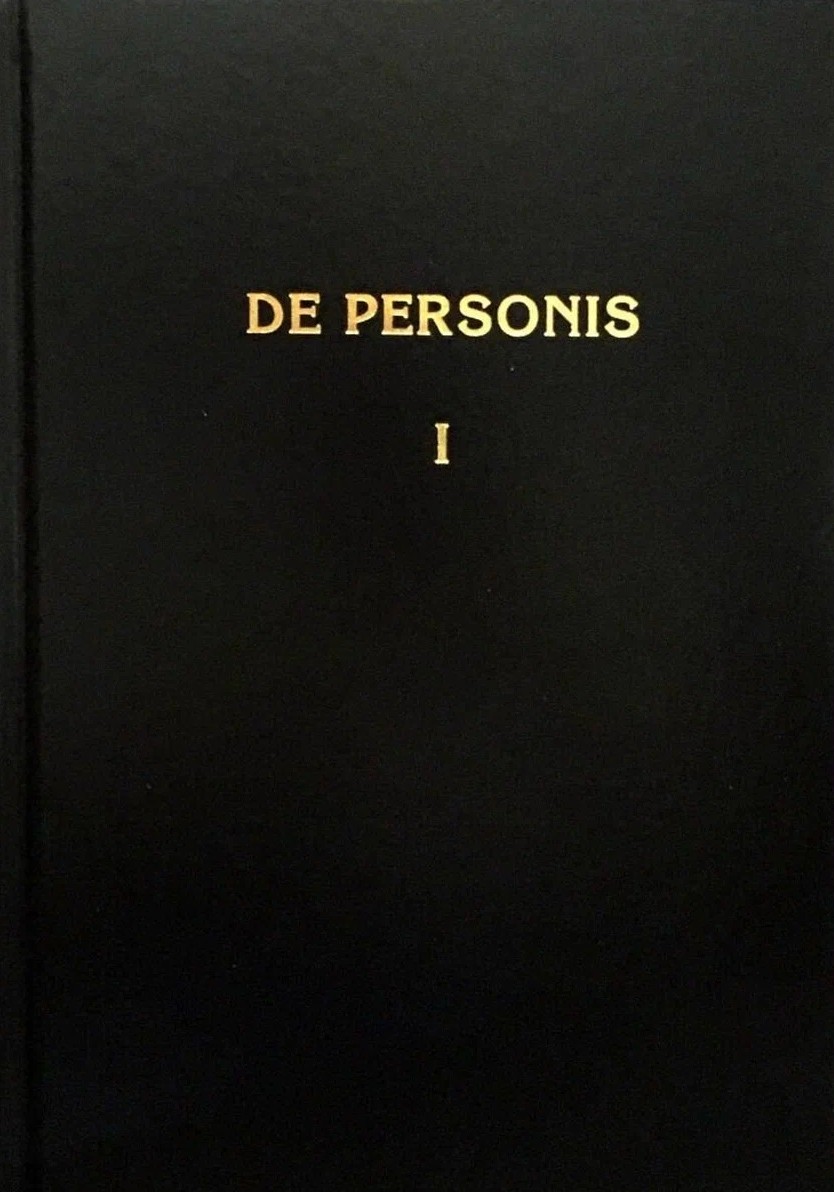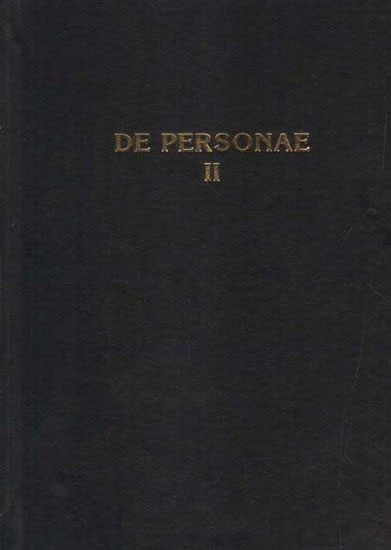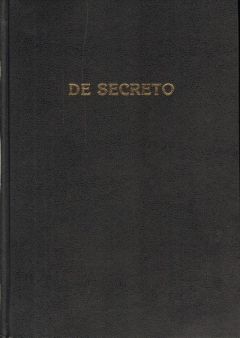чувственности и мистике. Оно объявило космос благим творением благого Бога и одновременно — юдолью греха, где господствуют злые духи. Оно провозгласило воскрешение мёртвых во плоти и одновременно объявило плоти войну. Оно обострило небывалым образом совесть своим предсказанием скорого Страшного суда гневного Бога, и оно же одновременно провозгласило этого Бога, ради которого оно сохранило в силе все высказывания Ветхого Завета, богом всяческого милосердия и любви. Оно требовало праведной жизни в воздержании и отречении, и оно же обещало полное прощение всех грехов. Оно обращалось к отдельной душе так, как если бы она была одна на всём свете, и оно созывало всех в солидарный союз братьев, такой же всеохватывающий, как человеческая жизнь, и такой же глубокий, как человеческая нужда. Оно возвело христианскую демократию, и оно же с самого начала было склонно подчинить её сильному авторитету» [95]. Подобную парадоксальность христианство сохранило до сегодняшнего дня; можно даже сказать: ею оно и живёт.
Эта сложность в христианстве была навеяна поздним иудаизмом, из которого христианство многое восприняло как свою веру. Маркион был агентом перехода от иудеохристианства к эллинистическому христианству: «Религия стала религиозной философией» [96]. Реально это означало, что христианство обзавелось собственным богословием. Гностики осуществили отсечение некоторых религиозных лейтмотивов от христианского вероучения, упростили и структурировали его, но внесли в него элементы мистериальности. У евреев не было теологии, не было её и в первоначальном христианстве.
Таким образом, в конце I — начале II в. христианство переживало тяжелейший кризис своих иудейских основ и компонентов: это–то и стремился преодолеть Маркион. Маркион придал предельную ясность загнанным в глубь христианства коллизиям между Петром и Павлом, между христианством для обрезанных и космополитическим христианством. Стало быть, Маркион развивал установку не столько на синкретизм, сколько на придание христианству простоты и единства, но без утраты парадоксальности. Тут существен один мировоззренческий поворот. Религиозный принцип, согласно которому вся высшая истина сводится к противоположности Закона и Евангелия, у Маркиона является также принципом объяснения всего бытия, всего происходящего. Иными словами, Маркион не столько этику интерпретирует таким образом, чтобы она отвечала мирозданию, сколько мироздание толкует так, чтобы оно отвечало этике. То есть чтобы этика была в нём возможна даже в чисто отрицательном смысле. Посредством этого тезиса религия спасения и сокровенности превращалась в этическую метафизику, что имеет своим следствием отказ от Ветхого Завета.
Эта этическая метафизика или, точнее говоря, онтология является двухслойной: Маркион, как уже отмечалось, учит о двух уровнях бытия, о двух Богах. Один Бог — «ремесленник» (Демиург), «Бог–творец», «правитель этого эона»; это — «знающий», «утверждающий», «справедливый», «законодательствующий» Бог. Напротив, другой Бог — это «тайный», «неведомый», «непознаваемый», «чуждый» Бог, но также — «новый» и «благой», милосердный Бог. С первым Богом Маркион предпринимает скорую гносеологическую расправу: Демиурга надо познавать по его созданиям. Чтобы уразуметь, кто такой Бог–творец, надо только взглянуть на сотворённый им мир: «Задирая носы, бесстыдные маркиониты берутся оспаривать работу Творца», — негодует Тертуллиан. «Действительно, — говорят они, — этот мир есть грандиозное произведение, достойное его Бога». В другом месте Тертуллиан оскорбляется в связи с рассуждениями маркионитов об «этих ничтожных элементах» (стихиях. — С. З.) и «этой жалкой обители Творца». Ветхий Завет, согласно Маркиону, является правдивым рассказом об этом Боге и сотворённом им мире. Они стоят друг друга. Но о высшем, неизвестном и чуждом Боге Ветхий Завет ничего не ведает.
Неуклонно следуя правилам своей «честной игры», Маркион отказывается от всяких позитивных утверждений о высшем «неизвестном и чуждом Боге»: Он не имеет никакого касательства к этому миру, ко всему тварному, включая человека. Христианство в лице Маркиона впервые вырабатывает чистое понятие о Боге, лишённое любых рудиментов антропоморфизма или эмпирических определений: это — чистый Абсолют, Экстремум, релятивирующий всё в этом мире. Это — чёрная дыра, своим абсолютным отсутствием сигнализирующая о преходящести этого мира, этого космоса. И способная в одно мгновение его поглотить, т. е. отбросить в тьму внешнюю. Такого рода мыслительные эксперименты стали обычными лишь в XX в., когда наука отказалась от принципа наглядности.
Единственным показанием о «неизвестном и чуждом Боге», которому можно и нужно верить, является Благая Весть Христа — посланного Богом, мир Сына, принявшего облик человека Иисуса и спасшего уверовавших в Него людей. Поэтому подлинным Евангелием Маркион считает Евангелие «чуждого и благого Бога, Отца Иисуса Христа, который спас из тяжких оков вечную жизнь несчастного человечества, которое ещё было чужеземным для него». Центральным сюжетом этого Евангелия, стало быть, является Спасение. То обстоятельство, что Бог–Спаситель, который является поистине Богом, не приходил к людям ни в каком откровении до своего явления в Христе, — оно вытекает из природы Спасения, каковое он дарует. На вопрос о том, почему Бог занимался Спасением чужих ему людей, нет никакого ответа в терминах причинности и мотивации: просто в силу того, что Он — благой и милосердный. На вопрос же о том, от чего освободил нас Христос: от демонов, от смерти, от греха, от вины, от плоти (все эти ответы были даны уже в первые десятилетия существования христианства), — на этот вопрос Маркион отвечает радикально. Христос освободил нас от этого мира и его Бога, чтобы сделать нас детьми нового и чуждого Бога. Отсюда следует, что зло, от которого освобождает божественное Спасение через Христа, есть не что иное, как мир вместе с его творцом.
Поскольку Маркион отождествил Творца мира с еврейским Богом, постольку он рассматривал Ветхий Завет, что уже отмечалось, не как религиозную подделку, а как достоверную информацию. Даже ветхозаветное обетование о приходе Мессии должно исполниться: вот только этот Мессия не будет иметь ничего общего с Иисусом Христом. Это будет натуральный еврейский помазанник, Мессия или, по–гречески, Христос — воитель и защитник еврейского народа в стиле царя Давида. Но при этом еврейский Бог вместе с верующими в свидетельство о нём, Ветхий Завет, должны были стать кровными врагами Маркиона.
По Маркиону, христианское понятие Бога должно быть целиком и полностью сконцентрировано на Спасении через Христа. Пославший Христа Бог не может и не должен быть кем–либо иным, нежели Добром в смысле милосердной и спасительной любви. Всё прочее надо отбросить: «Бог — не творец, не законодатель, не судья, он не гневается и не карает, он есть исключительно и единственно воплощённая любовь — спасительная и одушевляющая» [97]. Христианство — религия парадоксального, неизвестного и чуждого Бога, но это и эксклюзивное религиозное послание о Спасителе и Спасении. В «Антитезах», однако, чётко проявилась склонность Маркиона к докетизму в трактовке Спасителя