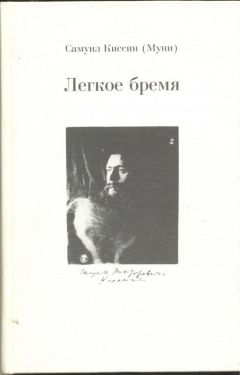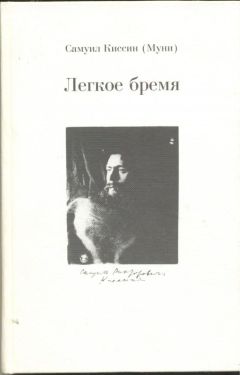И со слезами на глазах Прате стал говорить о силах народа религиозных движениях, о том, что они не реакционны, и что Кувшенко должен делать в ближайшем будущем и потом, и даже как умереть.
Кувшенко слушал, и глаза его загорались, он вырастал для себя в гигантскую фигуру, тень от которой падала на все царства земные, он — бывший ветеринарный студент, но смирение охватывало его; он вспоминал об искушениях Господ, них и со страхом уже смотрел на Прате, но тот, не замечая перемены в собеседнике, говорил, вытаскивал книги, цитировал, предрекал, пока неожиданно, как всегда, не принесли снизу обедать.
Из дневника Кувшенки
Вот уже второе лето живу я в Перечне. Можно сказать, второй год, потому что какое мое житье зимой. И вспоминать не хочется. Хорошие здесь места. Хорошие люди. Все, кого видишь здесь, живут, работая, и крепкая работа на воле утомляет всех здоровой усталостью и родит в голове крепкие живые мысли, и вовсе не бедные, не жалкие. Не знаю, другим как, а мне нравится наш американизм. Я почти что не был в деревне, и не знаю, как у мужиков, но здешних, речных людей посмотрел я довольно. Вот, мне кажется, глядя на них, и установил я для себя ту разницу, которая у меня во взглядах с Прате. Ему я, конечно, никогда не скажу, потому что какой я оратор, а Константин Анфимыч — писатель все-таки. И все же прав я. И разница эта, по-моему, такая: Константин Анфимыч чуда ждет, потому что недоволен и потому что (он сам себе в том не признается) не верит, что оно когда-либо было. И по чину ему, и по всему верить нужно, и хочет он, а не может. Потому он о будущем так говорит, потому от настоящего, как от комаров, отмахивается. Нет у него удивления, а хочет он удивиться. Как в сказке человек страха искал — все не боялся, — так он чуда ищет, удивиться хочет, благоговеть жаждет. А речной человек — он про чудо знает, он чудо чует. Было чудо. Удивился раз навсегда речной человек — и спокоен, и пошел дрова воровать, потому что дрова нужны. И пошел суда чалить, и водку пить. И всегда знает и помнит он о чуде, о чудесах даже, потому что ходит человек — разве это не чудо? вода течет — не чудо? в нашей стороне кормится — не чудо? И живет речной человек. «И благо ему на сей земле».
22-го июня. Ночью сегодня ходил к Марье, Пошехоновой дочке. Недобро на меня смотрит сам Пошехонов Николай Иваныч, и сыновья косятся. И пусть себе. Дело вовсе не в том. Как— то нехорошо, что я с Марьей не так, как с человеком, которого люблю, не так — стыдно мне сказать это слово, — как с бабой, которая мне нужна. Ведь я у нее точно учусь, точно вызнать хочу, как живут, какими глазами смотрят на все и она, и братья ее, и отец ее, Смирнов-Пошехонов, и Гусев-жандарм, и Антон-глухарь. И вот когда ночью крадешься по берегу, а река сыростью дышит на тебя, на небе какой-нибудь Сириус, а на реке, на бакене — зеленый фонарь, и на судах огни, и идешь ты прямехонько на сеновал к девушке, которая ждет тебя, очень совестно тогда, что в голове у тебя вопросы, как жить нужно и как об этом расспросить эту самую девушку на сеновале. А она вовсе не разговорчива. Ее бы воля, подходила бы она ко мне в темноте, брала бы за руку, говорила: «ну!..» и уходила бы через час. Но она стесняется своего нрава и сама рассказывает длинно и вяло, и меня расспрашивает с неискренним любопытством. Она хороша только когда молчит, сжав губы и опустив серые нехорошие глаза. Грудь у нее высокая, крепкая, руки полные, ростом она выше меня, волосы черные, как у цыганки. Только глаза нехороши — серые, светлые, какого-то болотного цвета и бесстыжие, и бегают. Моя бы воля, я бы тоже не разговаривал с ней. Но мне тоже неловко, и потом я хочу узнать, чем и как живут эти люди. Хочу проникнуть во внутреннюю часть их души. Ведь я знаю речного человека, знаю главное в нем, могу разъяснить его кому угодно, могу противопоставить чему хочешь, и все-таки, не знаю, что, но Мне неведомо в нем.
На днях к Прате приезжает Аглая Васильевна Барановская. Пойду посмотреть. Неловко очень приходить, а хочется. Ну, все равно.
Приезд
С утра пекло, и Кувшенко, которому нечего было делать, сидел на пристани и ловил рыбу. Клевало плохо, не клевало, червей обрывало с крючков, а в деревянной лейке плескались у Кувшенки только два ерша. Известно — ерш рыба глупая, жадная, в заглот берет. Ерша поймать невелика штука. Но вот колодка у Кувшенки покачнулась, задвигалась, леса стала почти ходить кругом по темневшей, расцвеченной перламутровыми мягкими пятнами нефти, воде. Кувшенко, произнося в душе всякие обеты, взял лесу рукой и, заведя ее влево, начал вытаскивать. Леса ходила в руке: так сильно дергала ее невидимая рыба. Накручивая лесу на ладонь, Кувшенко довел рыбу до поверхности, и когда появилась ее длинная, змеевидная спина, неловко, но сильно дернул. Как лезвие ножа, сверкнула на солнце узкая рыба. Упав на пристань, она начала прыгать, изгибаться, как бы отталкиваясь хвостом и головой от обжимавших ее досок. Кувшенко, выпустив из рук лесу, начал, приседая, ловить рыбу, стараясь прихлопнуть ее обеими руками. Пристань качалась на волнах, шедших от приставшего парохода Липутинского товарищества «Светлана». Но Кувшенко как не слышал свистка, так не заметил и волн. Наконец, рыба была поймана. Это был громадный, почти в три четверти аршина косарь. Кувшенко, наклонясь над лейкой, радостный и возбужденный, рассматривал рыбу. Вдруг одна из трех дам, слезших с парохода, спросила его, как пройти в Кремнево. Кувшенко взглянул на нее и сразу увидел, как ясен и жарок день, как качалась под ветром береза на противоположном безлесном берегу, как горело солнце в золотистых глазах спросившей его барышни, как светилось в широких рукавах ее красной кофточки, как облачка в лазури плыли, тая.
«Как пройти в Кремнево?» — переспросила барышня. Кувшенко решился на отчаянную смелость: «Если вы к Прате, я провожу вас, Константин Анфимыч поручил мне это, если я вас встречу», — сказал он. «Да, мы к Прате», — сказала другая дама; высокая, с светлыми кудряшками, с pince-nez на тонком носу. Одета она была в длинное, обтягивающее всю ее черное платье, несколько жаркое.
«Вы Кувшенко? Мне писал о вас Константин Анфимыч. Я — Барановская Аглая Васильевна, это — Евфратова Марфа Аркадьевна, а это — просто Грэс».
Грэс была прекрасна. В чем таилось Ваше очарование, Грэс? В тонких ли и нежных линиях овала? В каштановых, чуть золотистых тонких волосах? Или в блеске глаз Ваших, золотых и текучих? Тонкие ноздри ее дрожали, красные губы были влажны, как будто на них еще не засохли капли вина! Движения были естественны и прекрасны. Красным зонтиком упиралась она в кончик дивной ноги.
Вы прекрасны, Грэс, и желанны! И кто вдохновенный дал Вам дивное Ваше имя?! И как ясно, что все для Вас: и переливчатые пятна на светлой реке, и в ясном небе тонким паром, тонким паром развивающиеся, тающие облака.