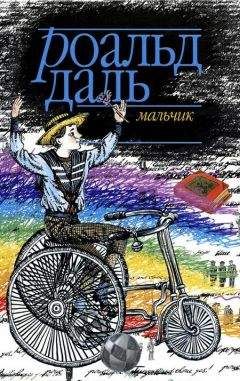Мы не поверили и потребовали у учителя доказательств. И он доказал, покрывая классную доску вычислениями.
В другой раз он притащил в класс полуметрового, если не длиннее, ужа и приставал ко всем, добиваясь, чтобы каждый ученик подержал его в руках. Это затем, говорил он, чтобы навсегда излечить нас от страха перед змеями. Его затея немало нас взволновала.
Не вспомнить уже все прочие замечательные штуки, придуманные учителем Коркерзом, чтобы развлечь свой класс, но одну его выходку я никогда не забуду, да и повторялась она не реже чем раз в месяц.
Вот он рассказывает нам то да се и вдруг обрывает речь на полуслове. Лицо его омрачает мучительно напряженная гримаса, голова задирается вверх, огромный нос начинает мелко-мелко втягивать воздух, принюхиваясь, и он громко вопит:
— О Боже! Так нельзя! Невыносимо!
Мы уже знали, что будет дальше, но всегда ему подыгрывали:
— А что случилось, сэр? В чем дело? Как вы себя чувствуете, сэр? Вам дурно?
Огромный нос снова задирался вверх, голова медленно покачивалась из стороны в сторону, и он втягивал носом воздух, словно пытался отыскать утечку газа или понять, где что горит.
— Невозможно терпеть! — вопил он. — Это невыносимо!
— Но в чем дело, сэр?
— Я вам сейчас скажу, в чем дело, — продолжал кричать Коркерз. — Кто-то испортил воздух!
— Ой, нет, сэр!.. Это не я, сэр!.. — И не я!.. — Не мы это, сэр!
И тогда он издавал новый вопль, еще сильнее:
— Открыть дверь! Проветрить помещение! И все окна нараспашку!
Это был для нас сигнал к бешеной активности, и весь класс дружно вскакивал на ноги. Сама операция была хорошо изучена и многократно отрепетирована, и потому каждый из нас точно знал, что он должен делать. Четверо мальчиков распахивали дверь и начинали со всей силы размахивать ею туда и сюда. Остальные кидались к огромным окнам во всю стену, карабкались на подоконники, открывали сначала нижние створки, а потом, орудуя длинным шестом, умудрялись распахнуть и верхние, и высовывали головы наружу, изображая недомогание и жадно хватая воздух. А Коркерз в это время безмятежно расшагивал по классу, бормоча:
— Это все капуста! Они вас ничем другим не кормят — только эта отвратная капуста! — вот вы тут и взрываетесь, как петарды!
И на этом урок, можно сказать, заканчивался.
Два долгих года в Рептоне я был слугой. Как и все младшеклассники, я прислуживал боузерам, то есть старшеклассникам. Боузеры были существа опасной породы. Когда шла вторая моя четверть в Рептоне, мне до того не повезло, что угораздило попасть в слуги старосты Дома, а им был тогда надменный, противный и непредсказуемый семнадцатилетний подросток, которого звали Карлтон. Карлтон этот всегда глядел на нас, скосив глаза на кончик своего носа, даже если росту в собеседнике оказывалось — как это и было в случае со мной — не меньше, чем у него самого. В этом случае он задирал голову и все равно умудрялся глядеть на тебя сверху вниз. У Карлтона в комнате работали трое слуг, и всех нас он запугивал и изводил, особенно по утрам в воскресенье, потому что по воскресеньям надо было чистить и приводить все в порядок. Слуги снимали пиджаки, закатывали рукава, приносили ведра и половые тряпки и убирали помещение своего хозяина. Мы скребли пол, мыли окна, полировали каминные решетки и убирали пыль со всех выступов и выемок, осторожно складывали в сторону хоккейные клюшки, крикетные биты и зонты.
Каждое воскресное утро мы трудились, наводя чистоту в комнате Карлтона, а потом, перед самым ланчем, в помещение парадным шагом заходил сам хозяин и говорил:
— Что-то вы долго сегодня…
— Прости, Карлтон, — бормотала вся наша троица и содрогалась. Еле дыша от напряжения, мы понуро стояли и глядели на гнусного Карлтона, дожидаясь, когда он закончит проверку. Первым делом он лез в выдвижной ящик своего письменного стола и извлекал оттуда снежно-белую хлопчатобумажную перчатку, которую затем подчеркнуто неторопливо натягивал на правую руку. Потом он медленно совершал тщательный обход комнаты, проводя рукой в белой перчатке вдоль всех выступов и выемок, по всем поверхностям письменных столов и даже по прутьям каминной решетки. Каждые несколько секунд он подносил руку к лицу, выискивая следы пыли, а мы, трое его слуг, затаив дыхание, ждали того ужасного момента, когда наш властелин выпрямится во весь рост и заорет:
— Ага! Что же это такое я вижу?
Его лицо озарялось сиянием торжества, и он поднимал вверх оттопыренный белый палец, на котором едва виднелось малюсенькое серое пятнышко — не пыли даже, а какого-то намека на пыль, — и он тогда впивался в нас своими бледно-голубыми глазами и говорил: — Ведь вы же должны были все тут почистить, так? И не удосужились прибраться как следует…
Для трех его слуг и рабов, вкалывавших тут целое утро, эти слова не могли иметь ничего общего с правдой.
— Мы тут вылизали каждый миллиметр, Карлтон, — отвечали мы. — Все вычистили.
— А откуда тогда пыль у меня на пальце? — вопрошал Карлтон, откидывая голову назад и глядя на нас сверху вниз через кончик своего носа. — Вот это же — пыль, правда?
Мы тогда придвигались поближе и пялились на его указательный палец в белой перчатке и на крошечное серое пятнышко, и не произносили ни слова. Меня так и подмывало ответить ему, но это было бы равносильно самоубийству.
— Неужели вы можете оспаривать тот факт, что это пыль? — продолжал Карлтон, все еще держа свой палец на отлете. — Если я неправ, докажите мне это.
— Но тут мало пыли, Карлтон.
— Я не спрашиваю, много ее или мало, — говорил тогда Карлтон. — Я спрашиваю лишь про то, пыль это или нечто иное. Быть может, это соль или, например, дамская пудра?
— Нет, Карлтон.
— Или толченые алмазы, может быть?
— Нет, Карлтон.
— Так что это?
— Это… Это… пыль, Карлтон.
— Благодарствую, — говорил тогда Карлтон. — Наконец-то вы признали, что так и не убрали толком у меня в комнате. Посему жду всех вас, всю тройку, в раздевалке, сегодня вечером перед отбоем.
Правила и ритуалы, обязательные в Рептоне для слуг, были до того сложны, что я мог бы заполнить их описанием целую книгу. Боузер Дома, то есть главный староста всего жилого корпуса, например, был вправе приказывать любому из слуг во всем Доме. Он мог встать, где ему заблагорассудится, в любом месте — в коридоре, в раздевалке, даже во дворе — и заорать: «Слуга-а-а!» — во всю мощь своей глотки и на самой высокой ноте, — и все мы, сколько бы нас ни было в тот момент, обязаны были бросить все свои дела и бежать во всю прыть на звук этого вопля. А тот, кто прибегал последним, мог заранее быть уверен, что боузер нагрузит его самой унизительной и самой неприятной работой, которую только сможет выдумать.