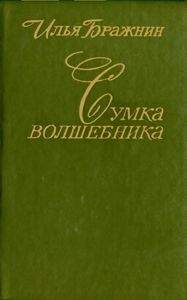Есть, конечно, и другие писатели — и среди прежних, и среди ныне живущих. Книги их исполнены движения и мысли. В каждой — неоглядная широта мира. В каждой — кипение дел и жар сердца.
Но, увы, рядом с ними немало и муравьиных дел мастеров, которые ничего не вымысливают, ни на что не замахиваются, боясь оторваться от будничных деталей, от непосредственно наблюдённого.
Я не против наблюдений вообще и не против так называемых будней. Ратуя за вымысел, я вовсе не собираюсь подрывать корни реализма или вымысел противопоставлять жизни живой. Я полагал и полагаю, что реализм был, есть и будет важнейшим и основным методом живого и животворящего прогрессивного искусства. Я полагаю само собой разумеющимся, что жизнь — это всё содержание искусства.
Но искусство не есть сама жизнь. У него свои особые законы, по которым оно живёт и без которых быть ему невозможно. Оно, как утверждает М. Горький, «требует воображения, догадки, выдумки». Развивая эту мысль в своей статье «О прозе», Горький говорит, что выдумка «совершенствует изображение в целях придать ему наибольшую убедительность, углубить его смысл — показать его социальную обоснованность и неизбежность. «Выдумка» создала «Дон-Кихота» и «Фауста», «Скупого рыцаря» и «Героя нашего времени», «Барона Мюнхгаузена», «Уленшпигеля», «Кола Брюньона», «Тартарена» и т. д. Вся большая литература пользовалась и не могла не пользоваться выдумкой».
«Совершенствуя изображение» жизненных явлений и жизненных типов, выдумка тем самым обогащает жизненную руду, из которой выплавляется звенящий металл искусства. От того жизнь не в проигрыше, а в выигрыше. «„Ревизор" — сплошная, почти невероятная выдумка, — говорит А. Н. Толстой в одной из своих статей, посвящённых писательскому делу, — но городничие и Хлестаковы раскланиваются с нами в трамваях».
С выдуманными персонажами можно встретиться не только в трамвае, но иной раз и в зале суда и даже на комсомольских собраниях. Это свидетельствуют, например, «Правда», «Ленинградская правда» и «Смена», в которых встречаются заголовки: «Тяпкины-ляпкины», «Советские маниловы», «Комсомольские молчалины». Этим, конечно, далеко не исчерпывается список старых литературных знакомцев, встречаемых нами в жизни. Разве не случалось нам сталкиваться в быту с обломовыми, беликовыми, да и с нашими современниками, ну хотя бы с шолоховским Давыдовым, к примеру? Разве Павел Корчагин не воевал вместе с нами в Великой Отечественной войне?
Я помню одну встречу на фронте с молодым лётчиком-истребителем Александром Арустаменко. Он, и будучи на фронте, поддерживал тесную связь с музеем Николая Островского в Сочи и с родными писателя: сестрой Екатериной Алексеевной, матерью Ольгой Осиповной, а также с секретарём Островского Александрой Петровной Лазаревой. Саша Арустаменко писал им регулярно. В ответных письмах, вместе со строками самыми сердечными и горячими, какими наполнены бывали письма тех дней из тыла на фронт, сообщалось, что в музее Николая Островского в Сочи побывало за два года тридцать семь тысяч человек, среди которых много бойцов и командиров Красной Армии. Лазарева писала: «У нас есть два экземпляра книги «Как закалялась сталь», долгое время бывших на передовых с бойцами (одна из них — в Севастополе)».
Тут же к письму приложена маленькая листовка-лозунг: «Молодёжь нашей великой чудесной Родины!
Я зову тебя к борьбе за твоё светлое будущее. Когда грянет гром и настанет кровопролитная ночь, тысячи бойцов встанут на защиту родной страны. Но меня среди вас не будет, друзья мои. И я прошу вас — рубайте за меня, рубайте за Павку Корчагина».
Да, Островского уже не было. Он умер за пять лет до начала Великой Отечественной. Но в предчувствии, в предзнании войны он звал бить врага родной земли. Он был участником этого боя, этой войны — и он сам, и книги его. Они сражались под Севастополем, они шли в атаку в ревущей машине Саши Арустаменко, они были в окопах и блиндажах, в землянках и капонирах, всюду, где были готовые к бою солдаты революции, или, как назвал их однажды М. И. Калинин, «критики с винтовками в руках». Так воевали с нами Николай Островский и его герои. И разве не партизанил в бесчисленных отрядах народных мстителей наш давний друг фадеевский Левинсон?
Нет, вымысел вовсе не отторгает писателя и его материал от действительности, а, напротив, «совершенствуя изображение», укрепляет эти живые связи искусства с жизнью. Вымысел, случается, настолько сливается с жизнью сущей, что часто и сам писатель не в силах бывает точно обозначить границы вымысла и бытия. Вымысел ему самому кажется столь естественным и живым, что перестаёт быть вымыслом. И тогда, закончив фантастическую «Шагреневую кожу», Бальзак неожиданно заявляет: «Писатели ничего не выдумывают».
Не менее решительно в этом смысле высказывается Гоголь, который в «Авторской исповеди» говорит: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято мной из действительности». И дальше: «Я никогда не писал портретов в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем больше вещей я принимал в соображение, тем у меня верней выходило создание».
Довольно неожиданные высказывания — не правда ли? Что же приключилось на Олимпе выдумки? Почему автор «Прощённого Мельмота», создавший персонаж, который заявляет: «Я не завишу ни от времени, ни от места, ни от расстояния. Весь мир мне слуга», — автор рассказа, в котором на протяжении нескольких последних страниц фантастическая неземная сила вездесущего и всемогущего сатаны четырежды передастся от одного человека к другому, вдруг заявляет: «Писатели ничего не выдумывают». В чем тут дело?
И почему другой неуёмный выдумщик — автор «Ревизора», в котором всё «сплошная, почти невероятная выдумка», автор «Заколдованного места», «Вия», «Майской ночи», «Пропавшей грамоты», «Вечера накануне Ивана Купалы» и других прекрасных небылиц, в которых прихотливое и изощрённое воображение плетёт тончайшие кружева вымысла, вдруг вздумал открещиваться от самой способности воображать, утверждая, что вовсе никогда «не имел этого свойства»?
Что сей сон значит? Почему два величайших выдумщика предают анафеме самую возможность вымысла? Что за странная прихоть? Что за вопиющее противоречие с самим собой и со своей художнической практикой?
Спокойствие! Ничего страшного не произошло. Не бойтесь за судьбу вымысла. Противоречие тут кажущееся. Не от вымысла отрекаются прекраснейшие в мире выдумщики, а от лжи. У Гоголя одна забота, чтобы «верней выходило создание». Правда жизни — вот чему страшится изменить Гоголь. Потерять опору своей выдумки в реальном — вот что устрашает Бальзака. Но страхи их напрасны. Ни тому, ни другому измена жизненной правде никогда не угрожала.