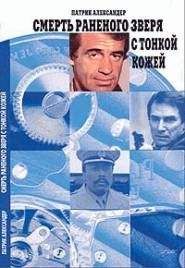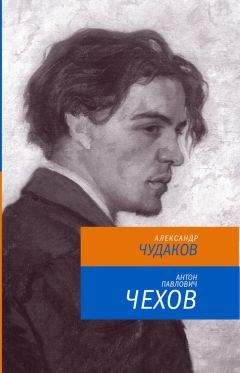— Впечатлительно. Образец натурального хозяйства эпохи позднего феодализма. Есть только два недостатка. Первый: отсутствует кожевенное производство.
— А кожи мокнут у нас за сараем, в чане, они очень вонючие, — вмешался Антон.
— Сдаюсь. Один недостаток. А именно: вы не умеете делать презервативы. Петр Иваныч, вы как историк — в натуральном хозяйстве XIX века не было презервативов?
Разговаривали при Антоне свободно; предполагалось, что он не понимает, о чем речь.
Отец дал справку: презервативы были известны гораздо раньше, еще при Людовике XIV, делали их из узкого отростка мочевого пузыря королевского оленя. Из одного оленя — один презерватив. Он был очень тонкий и невероятной прочности — когда мочевой резервуар оленя заполняется, он растягивается в несколько раз и выдерживает огромные нагрузки — например, длительный бег скачками. Современные технологии не могут создать чего-нибудь аналогичного по эластичности и прочности. (Антона занимало и потом — как обстоит дело с этим соревнованием теперь, в конце двадцатого века?)
— За чем же дело стало? — веселился Василий Илларионович. — В Чебачинске, конечно, нет королевских оленей, но полно быков! Завтра же иду на бойню к нашему другу Бондаренке и беру у него пару бычьих пузырей!
— На помощь пару пузырей, на помощь пару пузырей, — запел Антон.
— Бычьи не подойдут, — сказал дед. — Слишком толсты.
— А у косули? В лесах за Боровым — тьма косуль. Это же почти королевский олень. Двустволку мою Лариса сохранила, отличное ружье, с дамасковыми стволами, замки в шейку, ложе ореховое… Давно я не охотился. Завалим косулю-другую.
Но про мочевой пузырь косули дед ничего не знал, как и про этот орган у сайгаков, которые тоже водились недалеко — в степях за рудником Степняк.
«Презерватив» звучало хорошо, но, поколебавшись, для повторения перед засыпом Антон отдал предпочтенье недавно услышанному слову «псориаз». Псо-ри-аз.
Первым человеком, который сказал что-то о будущем Антона Стремоухова, была приехавшая с сибирского золотого прииска тетя Лариса.
— Мальчик-то губастый какой. Даст шороху по женской линии.
За жизнь Антон так и не понял, дал он шороху или нет.
Вторым был сосед, Борис Григорьич Гройдо, наблюдавший, как Антон роет колодец. Антону было пятнадцать лет, с восьми он рыл ямы, канавы, погреба, копал огород — все, что требовалось в нормальном натуральном хозяйстве. Но колодец — совсем другое. При рытье ямы ты сверху, у тебя свободный разворот. В колодце ты — на дне, не повернуться, землю выбрасывать высоко, неудобно, она сыплется на голову, ссыпается и тогда, когда ее начинают вытаскивать бадьями. Сосед сказал:
— Хорошо роешь. Не халтуришь. Толк из тебя выйдет. Колодезником не будешь, но халтурить не станешь и в своем деле.
Про халтуру он оказался прав, про копанье — нет. Антон копал всю жизнь: в школе — картошку и силосные ямы в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября, свеклу и морковь в подмосковных совхозах, куда каждый год в сентябре отправляли студентов МГУ, ямы компостные и для туалетов на дачах друзей и знакомых, траншеи на овощебазе Киевского района Москвы.
Была у него еще одна многолетняя обязанность: во дворе музея одного из самых знаменитых советских писателей, где Институт истории всегда работал на ленинских субботниках, Антон каждый год выкапывал большую яму. Завхоз ждал этого дня, звонил в канцелярию, спрашивал, придет ли Петрович из отдела русской истории XIX века; не прийти после этого было нельзя, да он и не собирался сачковать, он любил эти субботники, воскресники, любил накартошку, работу на овощебазе, только стеснялся в этом признаться.
Сейчас модно писать, как молодежь, интеллигенцию принуждали бесплатно работать в колхозах и на овощебазах. Меня никто не принуждал. Я воспринимал это как праздник. Разве можно сравнивать: сидеть на обязательной лекции по истории КПСС, на нудном заседании отдела — или копать, копать? Там была ложь, а это была правда. Правда лопаты, если говорить в духе твоей ментальности, как сказал бы Юрик Ганецкий.
Никогда он не испытывал такого наслажденья от чтения статьи или писанья своей, как от рытья серьезной ямы. В музее он сразу, пока все еще слонялись, курили, сидели на крылечке, брал лопату и начинал. Копать! И пока кто-то лениво сгребал мусор, кто-то жег сухие листья, он вгрызался в землю. И вскоре был в яме уже по пояс, а к обеду из нее торчала лишь голова. Подходили к краю, заглядывали. Кто-нибудь цитировал: «Я за работой земляной свою рубаху скину». Видно, великий поэт не знал как следует земляной работы. Долго так не проработаешь. Кто умеет правильно копать, тому рубаху скидывать не надо.
Яма — это искусство. Заставьте нынешнего пропагандиста народных корней и национального русского духа вырыть яму под саженец в твердом грунте (по обочинам всегда бывает такой). Он будет долбить лопатой по одному месту, потом в это же самое место начнет бестолково тыкать ломом и с удивленьем обнаружит, что за полчаса надолбил три пригоршни мелких комьев; он будет говорить, что лопата тупая, он станет бродить, смотреть, как копают другие, т. е. тоже долбят и скребут по одному месту; все вместе они выкопают к обеду два десятка похожих на общепитовские тарелки ямок с косыми стенками, в которые ничего нельзя посадить.
Яма — это наука. Тяжелей всего — первый вкоп. Потом надо сделать узкую выдолбку — пусть мелкую — во всю ширину ямы. Не мельче, чем на две трети штыка. Любым путем, любыми усилиями. Даже непрофессионально выцарапывая грунт. Но зато потом ты начинаешь землю срезать, и она отваливается легко, и твердый грунт уже не наказанье, а радость, он не рассыпается, а нарезается целостными влажными каравайными ломтями, которые сидят на лопате, и ты выбрасываешь их вон сразу, а не собираешь землю по горстке. С каждой проходкой лопата идет легче, уходит глубже — вот уже на полный штык. Ты не отдыхаешь, чтоб не прерывать наслажденья. Ты не останавливаешься — в этом ритме можно работать часами: нажим — перехват — бросок — нажим.
Землекопным учителем Антона в Чебачинске был шахматист Егорычев. А его учили на Беломорканале, куда он попал вместо всесоюзного шахматного турнира по доносу своего соперника; доучивали на канале Москва-Волга.
— На Беломоре — поляны или лесная земля после раскорчевки — пух! А в Подмосковье — тяжелые грунты. Площадя у населенных пунктов задерненные и затоптанные вместе. Дороги. Копать по науке — все равно что. Тяжело эти спрессованные грунты — возить. Кубатура та же, да вес другой. А зачет — по числу тачек. Техники никакой. Бульдозер я в первый раз уже после войны увидел. Кто каналы прошел — в землекопных делах профессор.