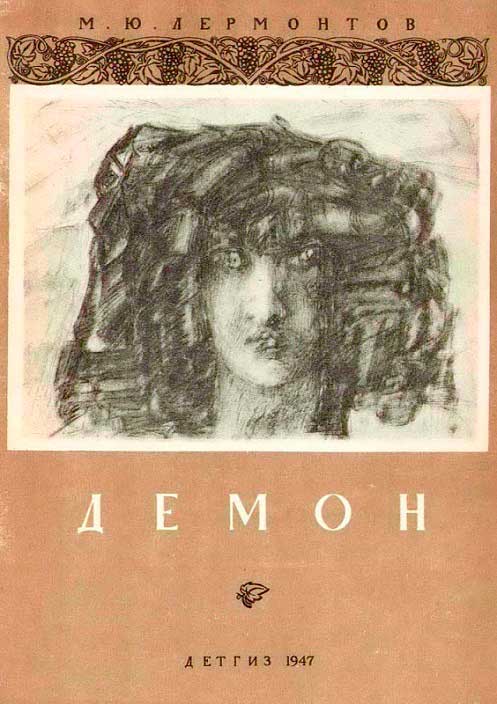я жил, были расположены в гористой местности, и узенькие улочки то уходили в гору, то катились под неё, благодаря чему конуры домишек казались скособоченными.
В конце сороковых и в самом начале пятидесятых мы с сестрёнкой и родителями гостили иногда у моей бабушки в Ленинграде на Большой Зелениной улице. Некоторые дома, расположенные на ней, были обезображены немецкими бомбами и напоминали мне и Дрезден, и Кёнигсберг. И наоборот – сохранившийся от бомбёжек Ленинград поражал и удивлял своей строгой линейностью. Удивляли бесконечные перспективы улиц, ошеломляющая прямолинейность Невского проспекта. Архитектура этого непривычного и удивительного города пугала и одновременно притягивала, завораживала.
Наш новый дом на Загородном проспекте находился недалеко от Витебского вокзала и Введенского канала. Устав от скандалов отца с матерью, мы с моей сестрёнкой Таней сбегали на улицу, где бродили без дела до наступления темноты – в надежде, что бузотёры наконец-то выяснят отношения и можно будет вернуться.
Выбравшись из дома, мы с Таней размышляли, по какому маршруту сегодня намерены слоняться, пока окончательно не продрогнем и не начнём искать убежища, где можно отогреться. Парадные двери в те времена не закрывались, и, заходя в любой подъезд, всегда можно было натолкнуться на работяг, торопливо пьющих из горла московскую водку, соображённую на троих, или зябнущих детей, сбежавших с уроков. Да мало ли на что и на кого можно было наткнуться в полутёмных парадных ленинградских домов, пропахших кошачьей мочой и кухонными “ароматами”.
Но кроме парадных, где можно было отогреться, существовало на Загородном проспекте одно не совсем обычное место – Военно-медицинский музей при Военно-медицинской академии (там же располагалась и больница, в которой проходили лечение наши военные разных чинов и званий). Здания этих учреждений тянулись по Загородному проспекту от Технологического института до Введенского канала, который соединял воды реки Фонтанки с грязно-серо-зелёными водами Обводного канала, уходящего за Витебский вокзал. Вход в музей был с Загородного проспекта, и, что главное было для нас в этом музее, – вход был бесплатным. Тем не менее посетителей в пустынных залах этого музея, кроме меня и моей сестрёнки, не бывало. Впрочем, иногда какой‑то военврач торопливо проводил толпу стриженных под ноль новобранцев, громыхающих кирзой, задерживая их ненадолго перед стендами, посвященными венерическим заболеваниям. Видимо, надеясь, что вид восковых муляжей, наглядно демонстрирующих поэтапное разрушение носового хряща, носоглотки и причинных мест, надолго отобьёт у молодых защитников Отчизны охоту до случайных связей. Оторопевший от увиденного и услышанного салака спешил к выходу, тяжёлые двери запахивались, и мы с сестрой оставались одни среди натуралистически сделанных восковых ужасов, коими являлись лица людей, поражённых проказой, или обезображенные чёрной оспой, восковые подмышки и пахи с папулами бубонной чумы, изъязвлённые различными болезнями ступни ног и кисти рук. В шкафах под стеклом скалили зубы уцелевшие части черепов времён Великой Отечественной войны, демонстрирующие различные пулевые и осколочные поражения. В одном из шкафов пылились колосья пшеницы, которые поедали чучелки семейства грызунов, оставляя на колосьях и зёрнах чумные бактерии. Мою сестрёнку-чистюлю особенно поражала выставленная напоказ провшивевшая насквозь рубаха окопного солдата. Интерес к музейным экспонатам у неё был неподдельный, и, вероятно, это сыграло не последнюю роль в том, что она долгие годы проработала в госпиталях России и Франции медсестрой, ухаживающей за умирающим людом. Побродив по этим залам несколько минут, можно было понять, почему, несмотря на бесплатный вход, входить в этот музей людей не тянуло.
Нам с сестрёнкой, как и другим детям войны, выраставшим среди руин разрушенных домов и загородных особняков Кёнигсберга, среди изувеченных войной советских солдат, немецких жителей, взрослых и детей, нам, натыкавшимся на усохшие трупы, нам, играющим с черепами и костями, – нам в этом музее страшно не было. Отогревшись, мы шли на наше любимое место вынужденных прогулок – на набережную Введенского канала. Длина канала была небольшой – километр с лишком, не более. Там всегда и в любое время года было пустынно. В тёплое время канал “благоухал”. На мутной воде покачивался вздутый трупик кошки или какой‑либо мелкой живности, пахло гнилой застоявшейся водой, тиной – одним словом, витал аромат каналов средневековой Венеции.
(С ним, с этим ароматом, мой нос столкнулся в 1972 году, когда я разгуливал среди венецианских каналов, где вздувшихся котов и крыс было в разы больше, чем во Введенском канале. Помню, я тогда закрыл глаза, вдохнул… и память мгновенно перенесла меня на набережную Введенского канала.)
Запах запахом, но Введенский канал являл собой зрелище неимоверной красоты! Дело в том, что стены канала состояли не из гранитных камней, а из потемневших брёвен! Эти брёвна время превратило в органные трубы тёмного серо-голубоватого цвета, вода порой приобретала тёпло-зелёный оттенок, удивительно гармонирующий с цветом брёвен. Стволы тополей, тянущихся вдоль канала, перекликались цветом и формой с “трубами” Введенского “органа”. Ни булыжника, ни тем более асфальта вдоль канала не было, только серая или тёмная от дождя земля, проросшая мелкими пучками чахлой травы, – и тишина, тишина. Мы с сестрёнкой, взявшись за руки, медленно бродили вдоль деревянных искривлённых перил, опоясывающих с двух сторон канал.
Уже тогда я размышлял, как и какими красками можно отразить красоту этого пейзажа. С одной стороны – обветшалые стены Военно-медицинской академии, больницы, музея, с другой стороны – четыре кирпичные трубы, виднеющиеся за стенами небольшого заводика, неизвестно что производящего, но производящего неустанно, ибо трубы испускали удушливый чёрный дым денно и нощно. А посреди всего этого чудо-канал – одно из многочисленных свидетельств красоты моего любимого Петербурга.
Впоследствии, овладев навыками масляной живописи, я написал полутораметровое полотно, изображающее мой любимый канал, а поняв, что из себя представляет офорт, я воспел Введенский канал и в цветном офорте.
Бок о бок
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.…За дверью бессмысленно всё, особенно – возглас счастья.Только в уборную – и сразу же возвращайся.Иосиф Бродский
Итак, новоселье отпраздновано, первое знакомство соседей с нашим семейством состоялось. Читатель уже представляет себе семью полковника. А я постараюсь сейчас обрисовать лики и характеры людей, с которыми пришлось прожить бок о бок шестнадцать лет среди склок, ругани, скандалов и драк.
Честно сказать, с соседями нам “повезло”, недаром мама окрестила нашу коммуналку “вороньей слободкой”. Но и наша семейка тоже была не подарок, образцовым поведением и тихой жизнью не могла похвастать.
И снова про мой чувствительный нос. Он был подвергнут изощрённым пыткам в коммунальном пространстве. Начну с того, что обе наши комнаты располагались напротив кухни. О запахах коммунальной кухни можно написать целый роман в духе Рабле. Вонь от жарящейся жирной немолодой баранины, чад от подгоревших котлет, угарный дым от жжёных сухарей для кваса, старого прогорклого масла,