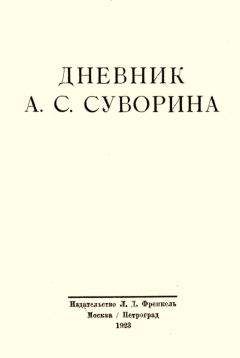«Я в жизнь свою никогда не разыгрывала сцен рвущейся к добродетели молодости, ибо, во первых, — к чему? — все равно никто но поверит, а во вторых, рваться — так не словами, а делом. Этим объясняются мои всесветные странствия. За театр я держалась, как утопающий за соломинку, — последняя надежда достать независимость. Но слаб человек вообще, а баба и подавно, а в театре как плыть против течения, одной против всех? Просишь: дайте роль, хочу работать, а ответ «такой хорошенькой к чему?» Так и пропал талантишко, «не успевши расцвесть». Лишь один раз встретила я, если и не совсем бескорыстную, но все же дружескую помощь от покойного Мошкина — царство небесное ему. Он дал мне средства уехать в Вену и работать свободно. И как я работала! — как лошадь! Знаете, каково выучиться в 10 месяцев чужому языку? это, батюшка, — чудо! Спросите профессоров. И вот после 4 лет работы адской, жизни монастырской, когда ступила, наконец — то, на первую ступень успеха в Берлине, — опять соблазнительность все убила. Линдау и его последствия, — и начинай сначала! Нет, право, господь с ней, с красотой! И последние остатки молодости мне лишь горе дают. Будь я совсем старуха, не стали бы меня путать с Гарденом, не пришлось бы отвечать за его поступки, да и не так бы была ему нужна. Свобода! Боже мой, как я ее люблю, и всегда ее уничтожает вот эта соблазнительность. Нет, не жаль мне ее. Нисколько не жаль!
«Да и что значит молодость? Для нас, баб, — возможность иметь любовников. Экая невидаль! Что в них? Слыхала я часто от страстных женщин охи и ахи. Не знаю, обидел меня бог чувственностью или что иное! Да что же это я вам рассказываю безобразия? Вот, право… А счастье, конечно, — в любви, да только любовь то не в чувственности. Для женщины и совсем не в ней. Право, две трети баб грешат не ради собственного желания, а чтобы любимому человеку удовольствие доставить. Так зачем же молодость? Да я теперь была бы гораздо счастливей — есть даже счастливей, чем когда — либо прежде. Разве легко жить на чужой счет? Как ни брыкайся, а все же гадость. Ну, ладно, выбираешь того, кто нравится, а что значит нравится? Вопрос: понравился ли бы, если бы не необходимо было выбирать? Ведь вот жила же я в Вене и до Берлина 4 года и никто не нравился. А счастье — прежде даже про это удовольствие не знала. Вот я теперь села на пароход и блаженствую, буквально блаженствую. А прежде вечно в уголку души — мысль: а что, верней — кто будет завтра? «Я ведь по улице идти не могла без горького чувства при виде одной из дам тротуарных. Точно солдат с мыслью: «а, может, следующая пуля тебе.» Как знать! Ах, не говорите! Чорт с ней! Ни одного дня молодости нет, о коем пожалела бы. Живу, человеком стала, — счастье что есть поверила лишь только теперь. Гарден выучил, — пусть тоже не бескорыстно, — да ведь все равно, благодеяние то остается неоплатным — и вы, вы даже бескорыстно, оттого я так к вам всей душой, и все зря и болтаю. И если понадобится вам человек для чего бы то ни было, — вспомните есть такая, что за вас на рожон лезть готова, — и баста!
«Это — ответ на соблазнительность. А вы чего молодость жалеете? Или она у вас была счастливая? Ну, тогда другое дело, конечно. Но только я говорю: пока душа и ум молоды, — чорт ли в годах или в морщинах! Это для дурочек-кокеток и актеров — верно, а не для нас с вами.»
«А вот хворать не хорошо. Я так беспокоилась, долго не получая от вас известий, только иногда читала статьи, — значит, все же не было опасного ничего.»
«Гардену я о вашем романе уже давно говорила, еще когда он был — рассказ, и после чуть не всякую главу. Он очень интересуется и говорит: «так то так, что любовь — вернее любовники — женщину от дела отрывают, но все же и не совсем верно, ибо все знаменитые бабы были развратные!» Ну, мое мнение, кое он разделяет, вы прочтете в Стринберговском фельетоне, он, кажется, объясняет противоречие. Но роман очень его интересует и он говорит, Варенька — совсем новый тип, еще нигде не бывалый. Мы часто думаем: что же будет? Ведь совсем иначе, чем рассказ, и очень оригинально. О Виталине говорит Гарден, что таких и здесь много, но Мурин — совсем особый русский. Жаль, что так коротко и раз в неделю. А Вы скажите, он уже готов, или вы отрывками пишите? Я очень любопытствую.»
«Теперь о Вильгельме, что знаю.»
«Рост — точь в точь наш наследник, но носит двойные каблуки. Выглядит полней, благодаря ватированным (здесь у офицеров принято) мундирам. Волосы — цвет две капли мои, средне-белокурые, от фиксатуара спереди темней, причесаны всегда очень гладко. Усы слегка светлей, закручены в ниточку. Глаза — серые с темными ресницами. Цвет лица — серовато-зеленый, совсем болезненный, и правая сторона губ иногда подергивается легкой судорогой. Голос — резкий тенор. Говорит слегка картавя, на манер прусских офицеров, отрывисто, точно отрубая слова. Левая рука — сухая и короче правой. Но это незаметно. Он всегда опирается ею на эфес сабли и имеет манеру особенно крепко пожимать руку, чтоб доказать ее силу. Не раз неподготовленные просто вскрикивали. Поводья может держать свободно и ездит верхом не дурно. Но для еды должен иметь особый снаряд — нож и вилка на одной ручке. Снаряд всегда возит с собой и он кладется ему на всех парадных обедах. Привычек масса: 1) переодевается по 6 раз в день. Имеет до 700 разных мундиров и т. п.; 2) любит очень много покушать, особенно простые блюда, между прочим, — русскую окрошку; 3) любит слушать пикантные анекдоты, особенно из военно-морской жизни. Из приближенных первый друг — Филип Эйленбург. Дружба такая, что некоторые уже подозревают любовь à la Ludvig von Bayern. По части дамской — до женитьбы имел массу историй, весьма скандальных, в обществе принца Вельского, что часто стоило много денег и неприятностей. Потом угомонился, играя роль примерного супруга. Но, с прошлого года (конечно, ради бога, между нами), есть оффициальная любовь — франкфуртская еврейка банкирша, отчего и его склонность к евреям, коих он прежде терпеть не мог. Муж барыни занимает ему деньги, а жена сопровождает его на морских поездках. Императрица уже заметила, начинает ревновать и ездить с ним вместе.»
«Особая примета — любит лесть до невозможного. Жена часто краснеет и уходит, слыша, как его в глаза приравнивают к Фридриху Великому и Александру Македонскому. Снимался в виде Фридриха Великого, обожает позировать для портретов, — в год по 6–8 раз непременно.»
«Некоторые ученые, медики находят в нем сходство с Фридрихом-Вильгельмом III, кончившим помешательством, и уверены, что он кончит так же. Действительно, он страшно капризен, переменчив, хватается за все новое и бросает немедля, и не знает меры ни в важном, ни в мелочах.»