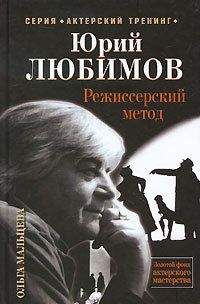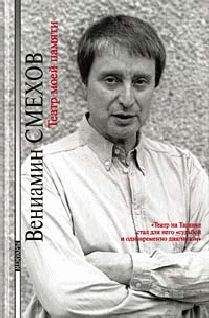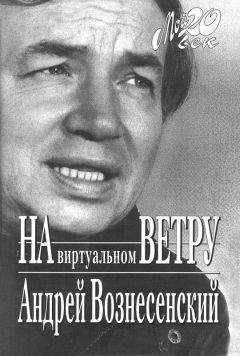«Антимиры»
Это подтверждается и следующим пассажем, посвященным «Антимирам»: «В «Антимирах», спектакле, составленном из поэтических текстов А. Вознесенского, Славина читает «Париж без рифм» – стихотворение юмористическое, радостно-легкомысленное, турандотовское по технике и по настроению. Надо слышать, какую волну веселья несет в себе это чтение. А ведь незадолго до того Славина вся заходится от гнева и плача в другом стихотворении – «Бьет женщина». «Париж без рифм» читается в образе студентки Латинского квартала, – в сценическом облике Славиной, в ее манерах и повадках, даже в ее прическе есть неуловимая близость к этому типу. «Бьет женщина» – монолог современной Катюши Масловой, это другая сторона души и облика Славиной». Здесь уже недвусмысленно говорится о том, что та или иная часть души Славиной проявляется в персонаже. А несколькими строками выше критик утверждает, что в игре Славиной «обнаженной страстности (…) столько же, сколько и жест кого сарказма» [23, 75]. Но даже если обнаженная страстность принадлежит только персонажу, пусть лирическому, то кто жестко саркастичен, если не сама актриса? Да, собственно, говорится об этом и прямо: «Лучшие минуты у Славиной – когда она, вырываясь из контекста роли, из общения, из предлагаемых обстоятельств, бросает в зал свои звеняще-рыдающие фразы». И все-таки, кто же это «она» – сама Славина в нехудожественном варианте? Нет и нет. И об этом в замечательной статье тоже «есть». Ведь и вырываясь из контекста роли, «бросая в зал свои звеняще-рыдающие фразы», актриса не перестает декламировать. «Искусство Славиной, – пишет критик, – яростно декламационно. Даже прозаические фразы Брехта она читает как стихотворение» [3, 75–76]. Кроме того, «есть скрытая музыкальность в игре Славиной. (…) Музыкальна пластическая форма Славиной. (…) В пластике поэтический подтекст яростно-декламационного искусства Славиной. (…) Пластика вносит в него холодок игры. Иначе сказать, Славина не только актриса декламации, но и актриса пантомимы» [23, 76–77].
Значит, когда, выходя из роли и бросая в зал свои звеняще-рыдающие фразы, Славина продолжает декламировать, ее музыкальная пластика в эти моменты также продолжает оставаться поэтическим подтекстом. То есть в моменты обращения в зал перед нами актриса Славина как художник, и высказывается она «напрямую», помимо роли, именно в образе художника, созданном с помощью обычных для нее средств. Можно назвать это ее собственным лирическим «я», если угодно; во всяком случае, это не Славина «из жизни» (бывают ли актеры «сами собой» в жизни, как, впрочем, и все остальные, – другой вопрос). Помимо того, что это художник-лирик, разыгрывающий «цветаевскую» женскую мелодию своей души, статья неоднократно указывает и еще на одну особенность актрисы. «Отличает же Славину, – пишет критик, – жанр, к которому она тяготеет, и некоторые гражданские мотивы. (…) То, что делает Славина в спектаклях театра на Таганке, мелодекламация особого рода, почти что с обратным знаком. (…) Славина оттеняет не напевность, но несдержанное волнение, клокочущую гражданскую страсть» [23, 75–76]. Значит, образ, создаваемый актрисой в спектакле, представляет собой довольно сложное сочетание персонажа, причем персонажа лирического, актрисы, предстающей в качестве художника со своей специфической женской темой, и художника как гражданина.
«Мать»
Автор статьи, посвященной роли Ниловны в спектакле «Мать», начинает, на первый взгляд, с полемики со статьей Гаевского: «Славина играет свою роль ровно и профессионально, без пафоса и исступления». На деле здесь получает развитие мысль критика о едва ли не взаимоисключающих возможностях Славиной-актрисы. Да, она может вести свою роль исступленно-страстно, а может и ровно, без пафоса и исступления. Вспомним высказывания Гаевского об экспрессивной эмоциональности ее игры, как будто бы не контролируемой разумом, и, с другой стороны, – о холодке игры и интеллектуализме. «История скромной женщины, сумевшей подняться от жизненной прозы и найти свой путь, рассказана Славиной скромно, ненавязчиво, убедительно» [57, 31], – завершает Г. Макарова свою статью. И все-таки в таком настойчивом рефрене, начинающем и заканчивающем статью, скорее, больше полемического. Мы же склонны согласиться с В. Смеховым. «Роль ее, – пишет коллега по театру, – отшлифована, профессионально разделена на «куски», на «задачи», актриса прекрасно общается с партнерами, у нее сильный голос, отзывчивая нервная система, она доносит текст ясно, крупно, без единой потери. Но это, так сказать, первый этаж. Здание ее образа составлено несколькими этажами впечатлений. А высший среди них – достоверность человеческого страдания. Она играет чувство материнства, играет больно, ранимо, как главное в своей – ее – жизни. Это вообще свойство актрисы Славиной – играть роль, словно идти на свое первое и… предсмертное дело. Она беспощадно, непоправимо, исступленно темпераментна. Славина играет так, как летят в пропасть, когда вы можете услышать даже удары ребер о каменные выступы. (…)
«Деревянные кони»
Следующая ее актерская победа наступит на территории современной прозы – у Федора Абрамова в «Деревянных конях». Она сыграет абрамовскую Пелагею с подробнейшей этнографией одежды, повадок и стиля, а трагедия русской пекарихи снова обдаст зрителя жаром горения, крайним выражением человеческого горя» [80, 94]. На «одержимость З. Славиной, которая все делает так, словно речь идет о жизни и смерти» [91, 25], – обращает специальное внимание и Т. Шах-Азизова.
А другая «премьерша»? «Чудо преображения… В чем его секрет применительно к творчеству Демидовой? – размышляет в своей статье А. Образцова. – Это прежде всего мастерство трезвого и беспощадного анализа. Актриса анатомирует духовную сущность своих героинь с пристрастием подчас педантичным. (…) Она (Эльмира в «Тартюфе» – О. М.) грациозна, что обусловлено не столько грацией движений, хотя Демидова, как и другие партнеры по сцене, умеет владеть своим телом, – сколько своеобразной грацией ума. (…) Демидова никогда не скрывает строгой подчиненности всего, что делает, контролю мысли, все тщательно рассчитывая и отмеряя. (…) Этот метод исследования, отстаиваемый Демидовой, можно было бы считать излишне рационалистическим, если бы в созданных ею образах не раскрывалась в результате суть явлений, отнюдь не поддающихся контролю рассудка» [66, 26–27].
Мы помним, что Гаевский немалую часть своей статьи посвятил пластической форме игры Славиной. Специальный разговор о пластике сценических созданий А. Демидовой ведет Р. Беньяш. В ее описании Милентьевны перед нами то и дело предстает именно пластический образ героини: «Она возникает впервые вдали в самой глуби сцены, на низкой лапчатой бороне, неотлучной спутнице ее давней шершавой жизни. Сгущенным и резким лучом сосредоточенного на ней света высвечен силуэт, двухмерный, длинный, чуть сникший, почти бесплотный». А в конце спектакля она отправляется «вглубь сцены и в прожитую теперь, вероятно, уже до края жизнь. Ее силуэт – наклонный, непрочный и чуть колеблемый воздухом – проходит путь, может быть, последний» [12, 54].